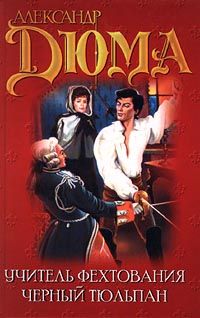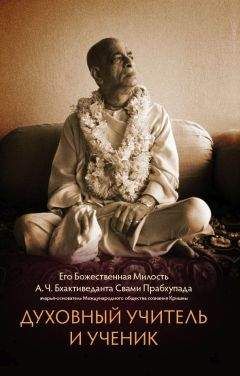Леонид Леонов - Избранное
Только теперь она очнулась от его смутительного, сумбурного напора; он обвивал её горячим ветром, но, нападая, он, кажется, заискивал в её сочувствии. Она собрала в себе силы, чтоб усмехнуться:
— …говорите, говорите! В вашем положении надо много, много говорить. Вы кричите как будто о синтезе, а между тем упускаете область социальных отношений. Человечество разрублено на государства, на классы и группы, но именно коммунизм объединит эти разобщённые части… так? Кроме того, уже теперь химия сливается с физикой, а биология неотделима от химии… мы на пороге единого познания мира в его целом, переливающемся существе.
— Чужое! Бред того грека, которого называли Тёмным…
— Значит, старик был близок к истине. Но при чём тут антисоветская агитация и мужики?
Ему было выгодней не расслышать её.
— …не торопитесь! Я весь мокрый и простужен. Я недоучка, вы правы. В пору, когда надо было учиться, в меня стали стрелять, а я отвечал. Все стреляли, даже женщины постигли это ремесло. Не спешите; вы попали мне в коленку, и у меня плохо срослось. Слушайте! На турецком фронте к нам в штаб прислали Бимбаева. Там предполагалось наступление, и нужно было взять один укреплённый бугор… этакую опухоль, изрытую сапёрами. Он приехал на такой загогулине о двух горбах, ехал и качался чуть не от самой Эривани. Он был в синем пенсне, и у него было какое-то неблагополучие в морде, кажется, — туберкулёз кожи… поэтому он был застенчив. Через неделю он вызвал всеобщее восхищение, когда испытанные мастера уничтоженья видели, на что способен учёный, если он сочетается с практиком. Он связался с физической лабораторией, ему прислали синоптические карты давлений, с разметкой их центров. В двое суток он основал свою собственную сеть метеорологических наблюдений и однажды, в солнечное утро, пустил волну. Я помню: поддувало с северо-востока. Газ заковылял вглубь. Артиллерия замолкла сразу. Всё было очень тихо. Ничто не нарушало погожего благополучия рассвета. То был великолепный апофеоз науки! Две тысячи трупов нежной мраморной расцветки и двести семьдесят медалей тем, которые месяц спустя лопатами сгребали мертвечину в братские могилы. Там было очень жарко, а убитые лежали в зоне жестоких заградительных огней. Кроме медалей, людям выдавался чистый спирт, чтоб, оглушив их в самом начале, приспособить к этой необычной работе. Один прапорщик запаса, сломавшись, стал стрелять, в своих, и его зарубили теми же лопатами; убийц не судили. У меня был кодачок, я снял, но фотография пропала при аресте. Затем сохранилась другая: как его качали в штабе, этого Бимбаева. Он застенчиво цеплялся за погоны офицеров и лишь вскрикивал: «Осторожней, господа… моё пенсне, осторожней!» Он превзошёл всех наших героев, этих самонадеянных кустарей; он дал военной науке изумительный опыт. Я потерял всё, даже ладанку матери, но эту фотографию носил за пазухой, на сердце, как паспорт моей идеи. Я пошёл звать его в собрание, на блины. Я сказал: «Вы чорт!» Он очень скромно уклонился от похвалы: «Зовите меня лучше Сергей Николаевич… это больше соответствует действительности!..» Мы с ним сошлись, приятный малый. Он сообщил, что газы в войну — не его выдумка, а того немца, профессора Нернста, реализовавшего, наконец, тысячелетний опыт науки. Это имя достойно быть вырезанным на медных досках в университетах… его грудь по справедливости украшена не одним, а тремя, может быть, миллионами крестов… я говорю, разумеется, о братских могилах. О, Бимбаев великий провокатор, который так умно показал мне могущество науки! У него была задумана великолепная машина, — в ней не пушки, а только колбы, сгустители, много колб, лопастей и вращающихся дисков… здесь-то химия побратается с физикой и механикой. Её пускают люди в каучуковых халатах! Сама унюхивая запах человека, ровно бегущего через огромное поле или кричащего в столбняке, она поедет на города, чтоб кусать, жечь, стричь, прокалывать, жевать, давить и отравлять людские мяса. Ха, они будут крутиться, зарываться в землю, кидаться в пропасти, залезать в горящие печи, а она их будет догонять… вы играли ребёнком в горелки? Он ещё потрудится, Бимбаев, пока его разум не сожрёт волчанка. Вы слышите, как он потеет? Колёса движутся, машина готова, но он ещё хочет учетверить количество её функций. Может быть, Бимбаев учит её летать, или улыбаться или произносить слово мама… — Он в изнеможен стиснул рукою бегущий мимо него воздух. — Однажды я видел, как от пули упал человек…
Она прервала:
— А вы думали, что он танцовать начнёт?
— Нет, я ждал, что он вынет пулю и кинет её назад!
— …итак, договорились до Революции?
Может быть, он растерялся перед новым словом:
— Да… если так называется великий гнев.
Изредка распахивалась облачная дверь, и неопределённая вспышка луны или зарницы освещала окрестность. Она текла, и всё текло под нею. Виссарион ёжился; ветер кромсал лёгонькое его, казённого покроя пальтецо, купленное им на первое же жалованье завклуба. Иногда он смаху наступал в лужу, брызги летели под ноги Сузанны, но она не умела выбрать минуту, чтоб остановить его.
— …тогда я упёрся в это слово, вы правы. В семнадцатом году я состоял членом полкового комитета депутатов, но скоро переменил установку: меня засадили в сумасшедший дом, который охранялся пулемётами. Я говорил: в революцию выживают либо дубы, либо гибкий осинничек, крапивка да прилипчивая ягодная травка в тени подгнивающих пней. Я хотел сказать, что гибнут лучшие, носители огня, что укрепляется здоровье мещанина. Прошедший сквозь революцию, он страшен своей подавляющей единогласностью. Но всё забывается через поколенье, а многое переврут поэты, всё окисляется, а растоптанная вещь… о, как она ещё отомстит за своё временное поруганье! Я был левее всех, потому что восставал в самом первоисточнике неравенства, культуре. Вот она лежит, развороченная, и всякий тащит себе из неё, что ему по плечу или по карману. Я говорил: надо выжечь отравленное это наследство, потому что мерзавцы… все эти Гомеры, Шекеспеары… правят нами сильнее любых тиранов. Надо уничтожить мозговой элефантиазис, эти благородные клеточки, где угнездились микробы вырожденья. Восставайте до конца! Человечеству ничего не остаётся, кроме как забыть своё прошлое и начать сначала. Вы скажете: пролетариат взялся за эту задачу…
— Приблизительно так, — вставила она.
— …вы говорите: обновление произойдёт, Эллада вернётся, но не мы вернёмся в неё. Прежняя держалась на рабстве, но в этом не было гибельных противоречий, потому что раб не был человеком. Она погибла, когда сделали это запоздалое открытие. Эллада будущего разовьёт индивидуальность, она станет держаться стальными рабами, машинами… не будет классов, процессы жизни сольются в одном. Будет новая дружба — равенства, а не подчинения. Будет коллективная душа. Так?
— Я не возражаю вам.
— Бимбаев говорил… он был, кажется, бурят: э, трэщина, звон не тот! Человечество задушат сытость и неразлучное счастье. Исчезнут социальные противоречия — источник развития. Уничтожится потенциал, и другой потухнет сам собою. Вот уж где — ни радости, ни печали, ни воздыхания… вот где благополучный, уравновешенный кристалл. Я буду отвечать за вас. Вы говорите: да… или возникновение новых, безумных противоречий? История человека — увеличение власти над природой, развитие его производственных сил? Героическая эта борьба ослаблялась классовой борьбою… вы мне напоминаете американцев, сжигающих зерно в топках паровозов, голландцев, которые вырубают кофейные деревья, чтоб не упали мировые цены? Без всего этого с новым блеском и бешенством вспыхнет творчество? Тогда-то и наступит расцвет духовной и физической мощи. Вы говорите: вперёд, к синтезу… пусть распахнётся посеянное однажды зерно?
— Да… вы увидите! — Она вдруг поправилась: — нет, вы уже не увидите…
— Моя удача — не видеть кары! Человек прорубит, наконец, эту голубую скорлупу и вылупится в мир ещё не знаемого цвета… там караулят его ещё не испытанные холод и одиночество. И уже не будет души, огонька, у которого можно было погреться. Поймите: где-то на перегоне двух космических скоростей, лучей различной длины мы — неповторяемая случайность. Вы — химичка, представьте — другая волна или в основу органического мира не углерод, а азот — и всё бессмысленно, потому что разумно для кого-то другого. В этом тупике куда я дену свой изощрённый разум, познавший, наконец, собственное своё ничтожество. Пусто и даже голову разбить не обо что! Я говорю…
Именно то, что угнетало её навязчивого собеседника, поселяло в ней жажду преодоленья. Она ждала выводов, вроде тех одесских безмотивников, которые подвизались с бомбами во имя беспринципного террора в начале века. Это было похоже и на буржуазных дадаистов, бунтующих против урбанизма, в котором заложены опасные социальные фугасы. Она недоумевала: чем он попытается увести внимание от более насущных проблем. Она сказала: