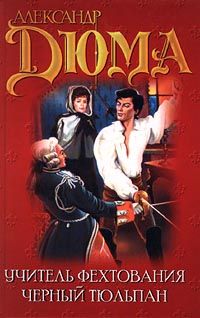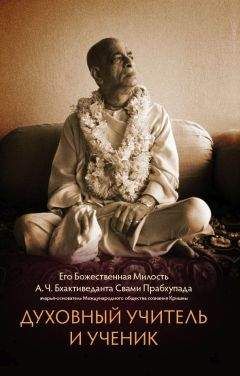Леонид Леонов - Избранное
Сторожиха бесстрастно подметала пол; в пыльном облаке она горой так и надвигалась на Увадьева. Теперь здесь владычила метла. В клубе никого не оставалось; только два арматурщика доигрывали партию в шашки у окна. Увадьев обошёл комнаты и, увидев в одной из них ящик радио, с любопытством вскинул на голову холодящее кольцо наушников. На чёрной панельке магически зажглись зеркальные лампы. В безмолвии ночи кто-то пискнул сперва, и вдруг оглушительные свисты и грохот как бы ссыпаемых камней ворвались в мембраны. Морщась, он покрутил слегка рычаги настройки и в ту же минуту услышал весёлую музыку. Это был несомненный танец, расплывчатый и отдалённый, точно Увадьев внимал ему в слуховой бинокль. Мельком он покосился на стену, где висела таблица волн европейских станций. Ему было так, точно приложил ухо к искромсанному недавней войною телу и слушает самую душу её. Тотчас он снова завертел рычаги, оглушая самого себя и волшебным шагом просекая Европу. Игривая, щекотальная мелодия, постигаемая лишь пятками, возникла в трубках.
Он быстрее завращал вариометры, лишь изредка справляясь с таблицей, точно с адресной книгой. Наряженные в треск грозовых разрядов и вой чарльстонов приходили души стран. В атмосфере было неладно, новые бури собирались над миром. Мембраны доотказа насытились их взрывчатой силой и грозили лопнуть. Склеившись в пары, мир плясал, в мире происходило чрезвычайное веселье, и даже мелкие державы, задрав подолы, приплясывали в своих захолустьях. Звуки были необычные, словно калёным железом играли на жильцах зоологического парка; звериный этот вопль странно искажался страдальческим акцентом человека. Увадьев слушал, и, может быть, он был единственный человек, которого воистину веселила эта музыка; он смеялся беззвучно, боясь помешать танцевальному сему неистовству. Временами слуховое поле загромождал грохот военного марша или как бы артиллерийской пальбы и непонятный вкрадчивый шелест… может быть, где-то уже наползал иприт?
В медные подобья гусиных глоток дули грустные безработные полковники; это было в Девентри, а в Будапеште кто-то во всеуслышание ломал рояль. В Тулузе тихо пели негры; в синкопированных, как бы на дыбу вздёрнутых тактах звенела натуго закрученная пружина. «О, она ещё расхлестнётся, когда над миром снова полетят гремучие бутылки войны!» Он почти прошептал эту мысль и вот насторожился. Знакомая песня поднялась вдали, и, хотя её тубафонили чужие люди, он узнал её. Эта песня катилась впереди голодных солдат революции, и за право вложить в неё новое содержание было заплачено кровь лучших. Искажённая до гримасы, взнузданная похотью, она ещё не утеряла своей страшной призывающей силы, хотя и сопровождало её явственное шарканье лакированных ног. Под неё танцовали… Он защурился, и вдруг почувствовал, как у него задрожали колени. Тогда он брезгливо бросил трубки на стол, и с минуту они шипели подобно головешкам в воде. Лампы потухли, наваждение кончилось.
Мимо сторожихи, ждавшей его ухода, чтоб запереть на ночь, он с закушенной губой вышел во двор. Подувал ветер, и лес шумел. Издалека нёсся чудной жалобный стон; наверно, осина тёрлась об осину или кричал лесной чорт, придавленный деревом. Небо застлали тучи. В реке плеснулась рыба: может быть, ей приснился скверный сон. На лугу, который тотчас же за лесной биржей, поржали кони. Увадьев шёл спать, день его был закончен. Тропинка приводила прямиком к одной из старых изб, сохранённых для жилья. Увадьев вскинул бровь: дверь его избы стояла раскрытой, а красть у него было нечего. На синем пятне окна чернел острый и знакомый профиль Геласия, который не обернулся даже на шорох хозяйских шагов.
В кармане ещё сохранился украденный у Бураго коробок. Спичка брызнула серой: Увадьев торопился выбраться из этих подозрительных потёмок. В руках у Геласия не было ничего; он потому и пришёл, что вообще ничего у него не оставалось. Волосы свисали на лоб; к рассеченной при каком-то паденьи безбородой щеке его пристала земля. Простиранная, милостынная рубаха забрана была в белёсые, грубого тканья штаны. Только и осталось у него от монаха — широкий ремень с продольной бороздкой, который стягивал тощее иноческое брюхо. Спичка стала жечь пальцы Увадьеву.
— Дай-ка лампу… вон со стенки. Да не разбей! — коротко приказал он. Тот вздрогнул, но не двинулся, Увадьеву самому пришлось возиться с лампой. — Что ж, братец, убивать пришёл, а сидишь — хоть дёгтем тебя мажь. Действуй, вообще, шуми!
— Водчонки… — прохрипел Геласий.
— Вот, вот, сейчас в кабак для тебя побегу!
От Геласия несло луком; последнее время, видимо, он и питался только хлебом да луком, который начал поспевать на чужих огородах. Не спуская глаз с него, Увадьев присел рядом и тронул его плечо; тот взглянул испуганно, точно ждал побоев. Теперь он сидел сутуло, пряча ладони в коленях и с закрытыми глазами; теперь это было распаханное поле, в котором всякое, что ни сунь, вырастает вдесятеро.
— Огорбел, вымазался, несёт от тебя… теперь тебя и помелом не вымоешь. Ну, о чём же нам с тобой говорить! Где скуфья-то у тебя, ты в ермолке-то больно хорош был…
— На заплатки извёл, — без выраженья солгал тот.
— Епитрахиль свою чинил, что ли? Где же она, чинённая-то… прогулял епитрахиль?.. или как она там называется?
— Рясу ребята у меня стащили… для смеху. — После ряда бессонных ночей губы его стали тверды, как роговые, и болели, когда понуждал он их пропустить слово.
— Ну, станешь в картузе ходить. Только постричься-тебе, инок, придётся. На такую швабру и бадья мала!
— Водчонки, — опять проскулил тот, царапая ногтями лавку.
Увадьев надвинулся и смаху стукнул кулаком по столу.
— Брось, выгоню! — прикрикнул он и почти с повадкой Варвары поглядел исподлобья, много ли напустил страху. — Где, когда живешь, дубина? Я хожу да гвозди на дороге подбираю, потому что… — он оборвал и тоскливо поморщился на пятно куриного помёта, приставшее к плечу Геласия. — В курятниках, видно, ночевал. Ну, раздевайся весь к чорту! Ишь, рубаха-то прямо корешки в тело пустила. Так… Теперь марш в огород, там у меня бочка врыта. Иди, говорю!
— Отвернись, не взирай на меня… — проскрежетал Геласий, всё ещё дрожа и повинуясь неохотно.
— Ничего, брат, я не девушка. Я тово… не девушка я, — говорил Увадьев и хлопал, как коня, по тугой и голой спине; на дворе уже накрапывало. — Ну, плещись теперь, не жалей воды… воды не жалей, говорю, новая натечёт! Смывай свои струпья, балбеска…
Была тепла вода, замшевшая и слизкая от перестоя, а тот жался: тошнее смерти было ему, питомцу Евсевия, мытьё. Увадьев зачерпывал ковшом и плескал в него как попало, пока не обнажилось днище бочки.
— …домой теперь! Да не спеши, не простудишься. Ну, вот и крестили парня в новую веру. Лоб давай я тебе иодом намажу, ничего, потерпи. Получай амуницию теперь — сапоги, рубаха, штаны. Бери, бери, у меня трое штанов: заработаешь — отдашь. Теперь ешь, пружину смазать надо… — Он сам нарезал ему хлеба, налил молока, сбегал надёргать на огороде тощих морковных хвостиков: — ешь, велю, ешь!
Есть ему не хотелось, зато пил жадно и много; излишек воды тёк у него по рубахе. Умытый, в чистой рубахе, и с волосами, налипшими на уши, с коричневой отметиной на щеке, он ещё более выглядел чудовищем, вылезшим в жизнь из дупла. Побагровевшие глаза смыкались.
— Гроб у меня тут… — неожиданно тихо молвил Геласий и показал себе на грудь.
Увадьев откровенно рассмеялся:
— …и говоришь-то всё ещё под титлами. Клейкая душ у русского человека: налипнет на неё, а там хоть с кожей сымай. На тебе, на чорте, бутовый камень возить надо, вот… Тебе жить надо, и так жить, чтоб — спросят тебя: «Что, человек, делаешь?» и тебе б не стыдно ответить было. Предайся делу науки, безграмотный ты человек! Учись, соси соки, читай умные книги… — Он запнулся, сам не зная многих из тех, которые хотел бы перечислить, и в досаде раскрыл книжку, валявшуюся на столе. — Вот, это немецкий язык, например… эс лебе ди вельтреволюцион! Это очень полезно, братец, знать, очень полезно. На свете уйма книг, и, когда всё прочтёшь, не верь, а ищи сам продолженья, делай наново, по-своему.
Так ковал он геласиево железо, пока было оно раскалено. Тот уже спал с открытыми глазами, и не понять было, насколько прочна была увадьевская ковка. Тогда он уложил его спать на овчине, у порога, а сам сел за письмо к Жеглову, которое несколько дней спустя должен был отвезти к нему Геласий. «Будешь браниться, друг, — писал он там, — что развлекаюсь этакими пустяками, но ведь сам же ты отыскал в людском навозе Ренне, сам же настаивал, что всякой ошибке надо меньше огорчаться, чем радоваться каждому лишнему успеху. Верится мне, что можно кое-что выстругать из этого бревна. Определи его куда-нибудь, в школу десятников, например, если таковая найдётся. Поставь его на умственные колёса в этом смысле…»