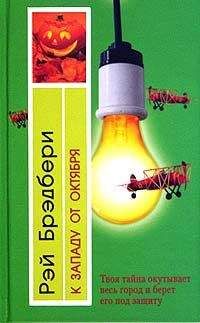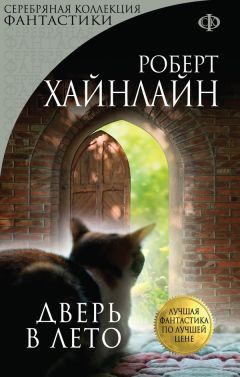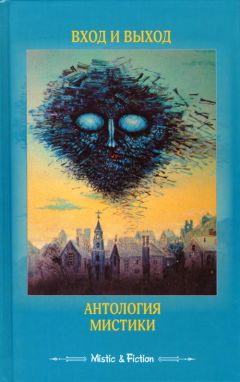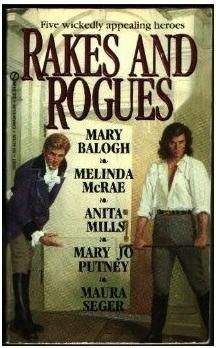Стив Мартин - Пикассо «Ловком кролике»»
ГАСТОН: Я вас хорошо понимаю.
ЭЙНШТЕЙН: То, что я сказал, это фундаментальное знание, окончательное, независящее от чьего-либо мнения, абсолютная истина, зависящая только от того, где вы сейчас находитесь.
ФРЕДДИ (замечая, что Пикассо погрузился в раздумья, теребит каждого по очереди): Эй, Пабло! Пабс…очнись! Эй, голубой паренек, что с тобой?
ПИКАССО: Простите, я старался, чтобы у меня не родилась идея.
ЭЙНШТЕЙН: У вас их много?
ПИКАССО: Вагон и маленькая тележка.
ГАСТОН: Как можно нарисовать что-то? По-моему, это невозможно.
ПИКАССО: Что вы имеете в виду?
ГАСТОН: Ладно, вы — художник. Вам приходится все время рождать идеи. На что это похоже? Например, мне на ум пришла лишь одна мысль, когда я решил покрасить оконные ставни. Мне надо было выбрать в какой цвет их покрасить. И я размышлял довольно долго. В светлый или темный? Потом решил: в цвет голубого леса будет чудненько. Через некоторое время понял, что не бывает голубых лесов. Тогда бросил монетку: пусть жребий решит, подумал. Но она улетела на крышу. Тогда я стал размышлять: «Что вообще такое ставни и каков их естественный цвет?» И пришел к выводу, что в природе ставни изначально не существовали, поэтому у них нет естественного цвета. Но тут на улице появилась эта пышка, с рубиновыми губами и бедрами в виде сердца. Я завертел головой по сторонам, и в шее у меня что-то хрустнуло. Это задержало дело с покраской на три дня, во время которых я уже подумывал о том, чтобы вообще снять эти ставни к черту. Но все же сказал себе: «Зеленый». И покончил с этим раз и навсегда.
Выходит в туалет.
ПИКАССО: У меня процесс идет примерно так же. Только я выбрасываю начало, середину и начинаю сразу с конца. Если я буду думать над выбором цвета, процесс замедлится.
ФРЕДДИ: Я знаю, что он имеет в виду (Делает коктейль).
ПИКАССО: Да, я знаю художников, которые так мучаются над этим, что порой доводят себя до помрачения ума. Мне их муки не ведомы. Я ставлю карандаш на бумагу, и он идет сам по себе. Только не чертеж, нет. Идеи — это другой материал. Они обрушиваются на меня с шипением, как ливень.
ЭЙНШТЕЙН: Они ведь «мыслящие».
ПИКАССО: Конечно!
ЭЙНШТЕЙН: А вы?
ПИКАССО: И я. Весь в кипенье мыслей.
ЭЙНШТЕЙН: В потоке?
ПИКАССО: Никогда. Поток — это миф.
ЭЙНШТЕЙН: Никогда потоком. Может быть, иногда?
ПИКАССО: Согласен, иногда.
ФРЕДДИ: А откуда они приходят?
ПИКАССО: До меня художники брали их из прошлого. Но с этого дня они будут их брать из будущего.
ЭЙНШТЕЙН: Только из будущего. Конечно.
ПИКАССО: В тот момент, когда карандаш летит по бумаге, будущее проступает на лице у рисующего. Представьте себе, что вы слишком сильно нажали на карандаш, и грифель прошел сквозь бумагу в другое измерение.
ПИКАССО и ЭЙНШТЕЙНА охватывает возбуждение.
ЭЙНШТЕЙН: Да, да!
ПИКАССО: Своего рода четвертое измерение, если вам так будет угодно…
ЭЙНШТЕЙН: Не верю, что вы это сказали! Четвертое измерение!
ПИКАССО: И это четвертое измерение и есть…будущее!
ЭЙНШТЕЙН: Неверно.
ПИКАССО (споря): Карандаш забирается в будущее и вытягивает из него идеи, и переносит их на бумагу с божьей помощью. А что вы, ученый червь, можете об этом знать! Вам нужны лишь теории…
ЭЙНШТЕЙН: Да, и, как и ваши идеи, наши теории должны быть прекрасны. Знаете, почему Солнце не вращается вокруг Земли? Потому что эта идея недостаточна прекрасна. Если попытаться доказать, что Солнце вращается вокруг Земли, то, чтобы набить эту теорию фактами, придется заставить планеты двигаться в обратном направлении, а Солнце делать мертвые петли. Слишком дурно выглядит.
ПИКАССО: Вы хотите сказать, что подгоняете жизнь под прекрасную идею?!
ЭЙНШТЕЙН: Именно. Мы создаем систему и смотрим, можно ли заполнить ее фактами.
ПИКАССО: То есть, вы не объясняете мир таким, какой он есть?
ЭЙНШТЕЙН: Нет! Мы создаем новый взгляд на него!
ПИКАССО: То есть, вы выдумываете невозможное и вводите его в действие?
ЭЙНШТЕЙН: Правильно.
ПИКАССО: Мы одной крови!
ЭЙНШТЕЙН: Ну, конечно.
Обнимаются.
ЖЕРМЕН: Ну, распустили слюни. Нанесли всякого вздора, а я скажу, что есть только одна причина, по которой один из вас подался в физики, а второй в художники. И эта причина — иметь много баб.
ПИКАССО и ЭЙНШТЕЙН: Что?
ЭЙНШТЕЙН: Вы что, действительно думаете, что я говорю себе: «Как бы мне познакомиться с большим количеством девушек? А придумаю-ка единую теорию поля»?!
ЖЕРМЕН: Я не говорю, что вы не искренни, но взгляните правде в глаза (ЭЙНШТЕЙНУ): вы ведете полную блеска беседу на вечеринке и (ПИКАССО) у вас есть абсолютно проверенная временем линия поведения: я бы хотел нарисовать вас.
ПИКАССО: Это возмутительно!
ЖЕРМЕН: Может быть, это происходит бессознательно. Я даже думаю, что вы осознаете, что не окружены красивыми вещами, и стараетесь восполнить этот пробел.
ЭЙНШТЕЙН: Графиня!
ГРАФИНЯ: Альберт!
ЭЙНШТЕЙН: Вы были в «Баре Руж»?
ГРАФИНЯ: Нет, конечно. Это то место, где, вы мне сказали, мы должны встретиться.
ЭЙНШТЕЙН: Глупо с моей стороны. Конечно, вы пришли сюда.
ГРАФИНЯ: Чтобы вы сказали сейчас о состоянии невероятности различить движение, исходящее вне силы гравитации?
ЭЙНШТЕЙН (в сторону): Как она обворожительна!..
ЭЙНШТЕЙН и ГРАФИНЯ идут к выходу.
ЭЙНШТЕЙН (бормочет): Невозможно различить, знаете ли, два тела, объединенных…одним полем…
ГРАФИНЯ платит по счету. ЭЙНШТЕЙН немного в смущении, но не настолько, чтобы расплатиться самому.
ЭЙНШТЕЙН (собравшимся, неожиданно восторженно): Хотя мы, скорей всего, никогда больше не встретимся вновь, как корни дерева, шевелящиеся глубоко под землей, мысли, что мы высказали нынче вечером, сплетясь, прорастут в века!
ПИКАССО (полон собой): Нынче вечером Земля отдыхала и слушала нашу беседу.
ЭЙНШТЕЙН (полон собой): О «Ловкий кролик!»
ПИКАССО: Пикассо и Эйнштейн, Пикассо, Эйнштейн. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что мы будем в разных томах энциклопедии.
ЭЙНШТЕЙН: Зато между нами не будет Бигмэна.
ЭЙНШТЕЙН и ГРАФИНЯ уходят.
ПИКАССО: Завидую ему.
ФРЕДДИ: Что так?
ПИКАССО: В науке можно и не быть циником.
ФРЕДДИ: Что же делает циничным художника?
ПИКАССО: Думаю то, что называют рынком.
ФРЕДДИ: Я должен выйти через ту дверь и поймать Антуана, прежде, чем он улизнет из города, не заплатив мне за все, что он здесь выпил. (ПУБЛИКЕ): Может, на это мне понадобится больше времени, чем вы считаете, необходимо человеку, чтобы выйти через ту дверь и поймать Антуана, прежде, чем он улизнет из города, не заплатив мне за все, что он здесь выпил, но обычно я возвращаюсь прежде, чем спектакль закончится.
Уходит. Возвращается ГАСТОН.
ПИКАССО: Гастон, не хочешь ли пи-пи?
ГАСТОН понимает, что хочет и уходит. ПИКАССО подходит к ЖЕРМЕН. Они целуются, похоже, не в первый раз.
ПИКАССО: Сладко. Очень.
ЖЕРМЕН: И кто я? Десерт?
ПИКАССО: Что ты имеешь в виду?
ЖЕРМЕН: Я имею в виду, сколько блюд ты нынче уже отведал?
ПИКАССО: Ну, разве не сладко? Мы ведь не чужие…
ЖЕРМЕН: О да, мы спим вместе, но различие все же есть. Женщины составляют твой мир. Для меня ты — вещь, которая никогда мне не попала в руки. Ты и Фредди, вы существуете в разных мирах. То, что я делаю в одном, не имеет ничего общего с другим.
ПИКАССО: Очень удобно.
ЖЕРМЕН: О, меня не собьешь. Я не сладкая. Ты мне нравишься. И это то, что я знаю о мужчинах твоего типа.
ПИКАССО: Мужчины моего типа? И какие же они?
ЖЕРМЕН: Выпей. Ты не хочешь, чтобы я пошла с тобой?
ПИКАССО: Нет, скажи мне о мужчинах моего типа.
ЖЕРМЕН (присаживаясь): Постоянная женщина важна для тебя потому, что тогда ты уверен, что дома кто-то тебя ждет, если ты не сможешь заарканить кого-нибудь по пути. Ты ведь облизываешь взглядом каждую, не так ли?