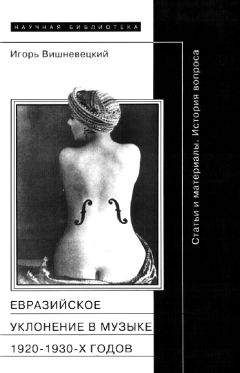Татьяна Майская - Забытые пьесы 1920-1930-х годов
ЗОТОВ. Как же ты, Петр Лукич, выкручиваешься?
ПАНФИЛОВ. Как? Ты же писатель, ну вот и поучи!
ЗАВЬЯЛОВ. Удачей берете?
ПАНФИЛОВ. Удачей? Эх вы, поэты, поэты, книжные все понятия в головке вашей поэтической! Фортуна еще скажи! Фортуна! Вот удача. (Показывает ладонь.) Схватил — удача, промахнулся — нету. Спрашиваешь, как… Видишь, вот среди вас сижу, костюмчик сто сорок аршин, сшито получше, чем у вас, господа писатели. Часы, видишь, Мозер на руке ношу{189}. А завтра утром ко мне зайди — в чем я буду? В поддевке, а на голове — картуз, а на сапогах — грязь, а на цепочке, через пузо — часики луковицей, а на луковице — брелочки железные. Это я на базар пойду. В час ко мне зайди, я в финотдел иду. Пальтишко на мне подержанное, а фуражка красноармейская. «Откуда у вас?» — «Да с фронта осталась. Привык, не хочется расставаться». В два часа пойдем со мной в трест, подряд буду брать. Одет хорошо, на голове фуражка — инженер. «Вы что — инженер?» — «Нет, не окончил». — «А, интеллигентный человек, все-таки лучше». Вы, конечно, господа писатели, догадались, что я образу тут немножко подпустил, но мысль вам понятна. Нет меня — личности нет. Савва, так тот у всех на виду был. Едет на тысячных рысаках, кругом шепоты-шепоточки: «Сссссавва Морозов, Ссссавва Морозов!» А Панфилов где? Кто панфиловское лицо знает? Никто! Панфилов с вами — одно, с тем — другое, с третьим — чем тому хочется, и со всем соглашается Панфилов, со всем Панфилов согласен. «Все правильно, товарищи, все правильно, ничего неправильного нет». И вот жив, живу. В че-ке сидел — не расстреляли, у петлюровцев по снабжению работал{190}, а махновцы пришли{191} — бегал на складах замки ломать, при Деникине{192} — поставщиком был, и сейчас два магазина имею, подряды, поставки и склад. Бит я, господа писатели, плеткой, шомполами, ручкой револьверной, ножнами, палкою, а кулаками безмерно и без всякого счета. Мешки на себе носил, на буферах мерз, с крыши падал, вшей кормил, двумя тифами болел, и пуля вот тут сидит. Вот он я, вон она, школа моя! Высшее учебное заведение — Оксфордский университет. А вы мне Саввой тычете! Щенок он против меня, теленок, ваш Савва.
ЗОТОВ. Хочешь, Петр Лукич, повесть сделаю, тебя опишу?
ПАНФИЛОВ. Повесть? Честь велика, господин писатель, уж лучше найдите себе другую тему, а меня оставьте.
ЗОТОВ. Нет, я серьезно говорю, Петр Лукич.
ПАНФИЛОВ. Серьезно? Так слушай, Иван Никанорович, хочешь мне услугу оказать? Хочешь, чтоб я, Панфилов, жил? Молчи обо мне! Молчи. Нет меня! В природе меня нет. Где я, кто я, что я — никому не известно, Савву вашего в любой толпе видать, а мне в толпе надо быть, среди всех, со всеми. Люди бегут, торопятся — и я бегу, остановились — и я стою. «Все в Авиахим»{193} — и я в Авиахим. «Все на беспризорность» — и я на беспризорность. Писать про меня не надо, ты напишешь, он напишет, глядишь, в толпе на меня глаза скосят: «Эге, да ведь это тот самый, который… А-а-а…» И отодвинутся, и вокруг меня пространство, и каждый уже приглядывается: что же этот растреклятый нэпман Панфилов делает? Нет, не пиши, Зотов, меня и без тебя опишут. Вот опять Савву вашего взять; раньше ты разверни «Копейку»{194} там или «Биржевку»{195}: «Савва сказал», «Савва сделал», «Савва подумал», «Савва, извините, сморкнулся», — вся газета о Саввах. А теперь развернешь газету и глядишь, не появится ли о тебе заметочка петитом, а если появится, заметьте, обязательно: «Хозяйчик распоясался». Да почему распоясался, будьте вы трижды прокляты! Почему распоясался? Вон он я — опоясан. Вот! И опишут, а на другой день тебя фининспектор опишет. Нет, Зотов, погоди повесть писать, может быть, когда-нибудь. А теперь не надо.
Сцена у стола с поэтессами.
Группа, хлопая в ладоши и целуя руки ЛИДОЧКИ ЮМ, требует чтения ее стихов. Она жеманится, потом встает и читает. Ей лет девятнадцать, она тонка, мала ростом, читает визгливо и нараспев.
ЛИДОЧКА.
Повяжу я ремнем рубаху
И за пояс заткну наган.
Если встречу — ограблю с маху,
Оттого что я хулиган.
Со свинцовой клепкой дубина,
По лицу кровоточный шрам.
Или финкою в сердце двину,
Или гирькою по зубам.
Я люблю свое дело блатное,
Чтобы выпить и драться всласть,
Я со всею московской шпаною
Объявляю теперь свою власть.
Пусть несут на меня газеты
Возмущения ураган —
Я останусь такой же отпетый,
Нераскаянный хулиган.
Голоса:
— Браво!
— Браво!
— Лидочка, замечательно!
— Теперь Леро, просим Леро!
МУЖЧИНА (заросший рыжей гривой, высокого роста, читает тяжелым басом).
Если солнце хороводит —
это день,
Если спутник с тобой ходит —
это тень,
Если бог росинку бросит —
то звезда.
Если милый тебя спросит,
ответь — да.
Если бог росинку бросит —
то звезда.
Если спутник с тобой ходит —
это тень.
Если солнце хороводит —
это день.
Сцена у среднего стола.
ПАНФИЛОВ. А по-моему, все это тень на плетень. Ерунда, плохо вы, господа, пишете, раньше, заметьте, торжественность была. Мальчишкой учил, а помню: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»
СИЛИН (подходя и хлопая его по плечу). Не даром, дядя, не даром. Сидишь тут, так ставь пиво…
ПАНФИЛОВ. Это можно, это можно. Эй, пивка еще дюжину!
ЗОТОВ. Тебя, Игнаша, покрыли сегодня здорово, читал?
СИЛИН. Читал. Критика, извините за выражение! Обратите внимание, какая критика!
ПАНФИЛОВ. Какая же?
СИЛИН. Еврейская критика, Петр Лукич, еврейская! Литература русская, а критика еврейская, вот и пиши.
ПАНФИЛОВ. Донимают?
СИЛИН. И не говори! А тебя, Петр Лукич, еврейство не донимает?
ПАНФИЛОВ. Нет, господин писатель, евреи — первые мои друзья.
ЗОТОВ. Ну и врешь же ты сегодня, Петр Лукич!
ПАНФИЛОВ. Я вру? Эх, Зотов, слушал ты, слушал, что я сегодня тебе говорил, а никак не можешь связать, что к чему. Мне, я говорю, евреи — друзья. Почему? Вот вам, господа писатели, рассказик. Можете использовать. Девятнадцатый год. Заключает Панфилов контрактик с неким иудеем Лифшицем. Едут в Харьков, везут товар. Заплачено поровну. Станция Яма. Остановка. Махновцы. Подавай им жидов и комиссаров! Лифшица, раба божия, берут и записывают его в приходо-расход. Где его вещи? Тут уже я вступаю: «Да у жида ничего не было, налегке ехал!» — «А ты кто?» — «Я так, проезжающий, Панфилов». Заметьте, господа писатели, фамилия чисто русская, славянская, новгородская — Панфилов. Ну вот, и Лифшица нет, и товара у меня вдвое. Это рассказик. Ну а вот теперь напротив меня торговля Шеломовича; так вот, зайдет покупатель в лавку. «Дорого, — скажет, — хозяин, дорого». — «Дорого-то, дорого, — говорю, — да ведь вот, — показываю напротив, — цены-то кто поднимает!» Поглядит мой покупатель: «Ах ты, жидовская морда, нэпманье проклятое». Я ему, конечное дело, поддакну. «Правильно, товарищ, правильно. Действительно. Кругом засели. Русскому человеку деваться некуда». Так вот, заметьте, денежки получу и сочувствие получу. Шеломовичу не спрятаться. Шеломович на виду, а Панфилов в сторонке. Вот хотя бы в театры пойти. Кого там показывают: Семен Рак — еврей{196}; в парикмахерской пьесе, в «Евграфе»{197}, нэпман — еврей. На «Зойкиной квартире» — еврей{198}. Как нэпман — еврей, как еврей — так нэпман. Люблю евреев.
СИЛИН. Ты меня извини, Петр Лукич, но и подлец же ты!
ПАНФИЛОВ. Не обижаюсь. Правильно, подлец. А ты не подлец?
СИЛИН. Почему?
ПАНФИЛОВ. Да как же, дрянь написал какую-то, выругали тебя, а ты сейчас: «Критика еврейская».
СИЛИН. Так ведь то…
ПАНФИЛОВ. Брось, брат, все сейчас подлецы. В каждом подлец сидит, и скажу я вам, господа писатели, вот в эту самую подлость человеческую верую — в ржавчину.
ЗОТОВ. Как это?
ПАНФИЛОВ. Вот, говорят мне, конец тебе, Панфилов, конец тебе, нэпману: социализм идет. Нет, товарищи, подлость не позволит — в каждом человеке сидит. Вот на эту подлость надеюсь. Заметьте, тянет подлость каждого человека порознь, и у каждого своя. Один на руку нечист, а другой картишками увлекается, третий до баб охоч, четвертый заелся, а вместе на всех — ржавчина. [И ржавчины стереть нельзя.] Вот во что я, нэпман треклятый, верую! Вы, дорогие товарищи коммунисты, в социализм верите, а я в ржавчину верю. Вот! Да ну вас, впрочем, к черту! Господа писатели, надоели вы мне.