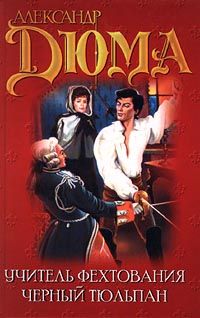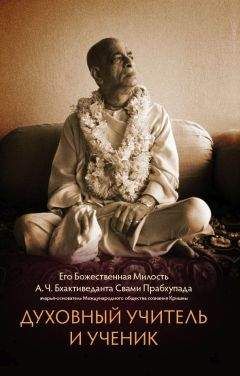Леонид Леонов - Избранное
— Погоди, Надьк, кричат! — откликнулся Кузёмкин.
— Небось, Лукинич опять старика своего учит.
— Не, то в скиту крик!
— Не в той стороне, глухарь! Ишь, Лука взрыдывает… — возразила дочь и, зевнув, мысленно пообещалась: — погоди, станет время, и тебе водички не дам попить!
Её-то уж больше всех распаляла досада на отца, который ещё утром посулил ей залобанить инвалида в женихи.
III
Пустословила она не зря: Лукинич жил не в ладах с отцом, Лукою, который состоял нянькой при собственном внуке; большеротый и слюнявый, этот младенец если не кричал, то спал, но если спал, то поминутно гадился. Даровую свою няньку председатель содержал в черноте, кормил объедком, водил в обноске и, частые распри завершая дракой, норовил ударять старика в то гладкое и непрочное место на голове, под которым, по неписаной мужицкой науке, средоточится у человека память. Уже окостенел старик от своего житья, уже явилось во взоре его то совиное безразличье, которое простые люди относят к мудрости, а ещё помнил много, и Лукинич справедливо опасался, как бы не вытекло из старика заедино с болтовнёй лишнее и вредное слово о нём самом. Все они, Сороковетовы, жили до отвращения долго и в большинстве погибали не своим путём; не потому ли и отмалчивалась деревня на писк и вопь, исходившие по ночам из большого этого дома. Один только скитской казначей посмел вступиться за каждодневно убиваемого Луку.
Произошло это вскоре после того, как прибили на скитские ворота бумагу о выселении. Целый месяц, пока не смыло её знаменитыми впоследствии дождями, Тимолай читал всем желающим, нараспев и по складам, мирской приговор о своей ненадобности. До поры, однако, всё оставалось попрежнему; только по нескольку раз в день наезжали паромы со строительства и набирали песку, которого вдоволь за тысячелетия наметала здесь река. Берег оползал и раньше, образовалась крутая осыпь, и при каждом дуновении непогоды струились вниз песок и гравий; корни деревьев повисали над пустотой, как разорённые гнезда. Когда же вонзились внизу новёхонькие, ещё певучие, лопаты, стало ясно, что не сегодня-завтра поползут вниз вассиановы огороды. Тут ещё и другая, внутренняя, подступала осыпь: среди молодых, о которых особо поминалось в объявленьи, неслыханное началось броженье, и вослед сбежавшему Виссариону многие посмотрели завистливыми и робкими глазами. С этого и началось: приходил кроткий Иов к игумену, просил разрешения на брак с одной пожилой девицей, причём уверял, что в женатом облике он ещё ревностней станет служить господу. Двух других попросту выгнал Филофей за срамоту и смуту, а четвёртый, престарелый скитской сапожник, собрался с духом да и подал в суд о взыскании жалованья за все сорок три года беспрестанной работы в скиту. Поддуваемые с другого берега, тлели людские угольки, и Вассиан видел однажды вечером из огорода, как в лодке, управляемой Прокофием Миловановым, переправлялся на скитский мысок московский комиссар. Направление они держали к самому тому месту, где, незлобиво распевая тропарь, уже второй вечер косил Тимолай. «За ним, за последним охотится. Эка, четверорукий, до всего достаёт!» — уныло смекнул казначей и заранее предсказал Тимолаю убийственную геласиеву славу.
А Геласий уже зверовал под Макарихой. Тотчас по растрате скитских рублей бежал он в леса и жил там неделю, питаясь и ночуя звериным обычаем; потом, когда чуточку свойлочились волосы на душевной ране, вышел на мокроносовское гумно и попросил есть. Веяли там бабы прошлогодний урожай, дали ему со страху лопату зерна, и он опять вприпрыжку умчался в лес: ещё пугал его человеческий голос. В поисках себя самого плутал он по дебрям, и ночью, когда в Соти отражалась звёздная вечность, на весь лес испытующе кричал свои кощунства, но ничто не случалось. Так родился слух в селе Пятница, что на Енге, будто за безумным монахом бродит по сухим болотцам напрасно оплёванная им богородица; бабы советовали мужьям прикончить Геласия домашним способом, раз уж с пружины сорвался человек. Но вскоре, когда покраснели от смолки старые пашни, Геласий вышел сам из лесу и нанялся к Федоту Красильникову пилить дрова. Вся женская половина села ходила смотреть сквозь плетень, как, рваный и утерявший облик человека ворочает он без отдышки огромные берёзовые кряжи. К пригону скотины баб набралось множество; покачивая головами, они вспоминали всю родословную Геласия, нищих и бродяг, от которых он и получил свои бунтовские дрожжи.
— Ишь, ворочает! — и ласкали несытым взглядом злые, бегучие геласиевы мышцы. — Мы и лошадьми столько не сработаем.
— Монаху что, ему житуха сладкая… — сбиралась подзадорить другая и не договорила.
Беспоясый и босой, с маленькой до удивленья головой сам Красильников вышел расплачиваться со своим не обыкновенным батраком. Он имел обыкновение платить медяками, чтоб казалось больше, и ещё водкой, которую, со времени закрытия макарихинского Центроспирта, ставил вчетверо против казённой цены. Приняв бутылку, Геласий угрюмо смотрел в сторону, на оглоблю, торчавшую из-под навеса. Тут до него и дополз, видимо, неосторожный бабий шепоток; сгребя всю медь с федотовой ладони, он неистово метнул её в толпу и стоял с оскаленными зубами; однако никто из бывших по ту сторону плетня не поднял ни монетки, словно были они раскалены или заклеймены отступничеством. Потом, лопатами раскинув руки, он пошёл вон со двора. По пустой, разом вымершей улице он направился на мокроносовский сеновал, где имел пристанище по старой дружбе, и вот тут-то, близ савинской лужи, никогда, не просыхавшей, носом к носу столкнулся с Увадьевым.
Как тот ни спешил, а всё-таки остановился; не столь задержала его откровенная бутылка в геласиевой руке, сколь самый вид его: был он в стоптанных бахилках, а прикрыт рваниной, проплатанной цветным лоскутьем. Стоя наискосок, они созерцали друг друга с каким-то тупым недоверьем, и тотчас же их окружила орава детей, восторженно ожидавших какого-нибудь события.
— Хорош, очень хорош, — раздумчиво сказал Увадьев. — Эк, шут преподобный, до чего дошёл, а всё впустую мотается твоя машина. Что ж, заходи вечерком как-нибудь чайку попить…
— Я тебя, погоди, вечерком убивать приду, — еле слышно отвечал Геласий; он стоял посреди самой лужи и ничего не замечал.
Увадьев только засмеялся:
— А, убивать, — тогда пораньше приходи, а то я спать рано ложусь. Я, брат, не свой нынче человек… дела всё! — и, не кивнув, прошёл мимо, даже задел локтём Геласия, который не посторонился.
Мокроносов был тот вечер в отъезде, и оттого завладела Геласием на ночь васильева ватага. На лесном ручье стояла замшелая красильниковская маслобойка, сплошь склёпанная из дерева, без единого железного гвоздя; под колесом водились налимы, ивовые ветви мокли в воде. Здесь, у костерка, в котором пеклись яйца, еда пьяниц, обычно, и озоровал Василий; Геласий, видно, служил вместо перцу в его пресных забавах. Изредка пососав из круговой бутылки, он неуклюже плясал в зыбком свете костра… и тут выходил из мельницы старик с налимьей харей, управитель и работник ещё Васильева деда. Посмеиваясь куда-то в кривую скулу себе, он глядел на куцую отрасль знаменитого рода и вот пригибался к хозяину… В открытую дверцу рвалось пыхтенье гранитных медведей и тупые вздохи пестов.
— Глянь, Вася… ровно с пружинами инок-те, а тебе и полножки не дадено. Не робей, зато ты богатенький… эва, точно пашá турецкий промеж холуев своих сидишь!
Василий морщился; в действительности, он стоял у костра, а всем казалось, что он прочно сидит на травке.
— Ты кради, кради своё масло у помольцев! — вскипал он и тут же развлеченья ради выщёлкивал угольки из костра под босые и такие неистовые ноги Геласия: не радовало его это наёмное веселье.
— Как тут украдёшь, закон: девять колобьев, девять фунтов на пуд! — и снова склонялся криворотый маслянщик; любил он задор, сраженья, грозу, а больше всего огонь в живом человеке. — А у дедушки твоего, Вась, кони были — страшно к конюшне подойти. А он, бывалч, вскочит, ногами стуканёт, вдарит кулаком промеж ушей и скачут, два чорта. И никто не знает куда, зачем, а скачут… До гроба молодым был.
— Уйди, не трави, — защищался Василий и жевал обесцвеченные тоской губы.
Старик приносил блюдечко свежего, пахучего льняного масла, и они опохмелялись им до изжоги. Ныла инвалидная душа, всё выискивала поступок, который вернул бы ему утерянную доблесть. В десятый раз бегала в Шоноху неутомимая шинкаркина девочка, и всё боялась приблизиться к этой яме огня и неистовства; в ней всё ещё скакал подпекаемый Геласий:
…что ты, что ты, что ты, что ты —
я и сам бясовской роты,
полосатого полку,
скачу до потолку.
…у костра и заснула оголтелая дюжина, а когда проснулась — только выбитая земля свидетельствовала, что здесь било и подкидывало скитского бегуна. На этот раз он пропал надолго, и толковник Лука клялся, что глупого парня присосала в себя трясина, отчего и прорыжела горькая болотная вода; противники же Луки полагали, что Геласий вернулся в скит, и там повелено ему стоять год в древесном дупле, на манер древних подвижников, которые вдоволь имели времени и не на такие затеи. Смеялись, видно, спорщики: скит оголился, разруха просочилась сквозь частокол, старики оставались одни, самые двери бежали с петель. Всего за полторы недели до троицына дня исчезнул небурный Тимолай, вздумавший, видно, околицей добрести до неба. И чем цветистей распускалась весна, тем плотней сгущалась тьма над северною Фиваидой. Близ обеда сбирались старики на ту самую скамью, откуда ещё недавно размечал карту будущих сражений Увадьев, и безмолвно дивились образу, который принимала на Соти подстёгнутая история. В старых книгах, замкнутых в торжественные кожаные гробы, они искали ответа недоуменьям, но не было там ни о революции, ни о целлюлозе, а стояло расплывчатое и косноязычное слово: антихрист. И верно: две тысячи зачинщиков нового закона на земле копошились под Макарихой.