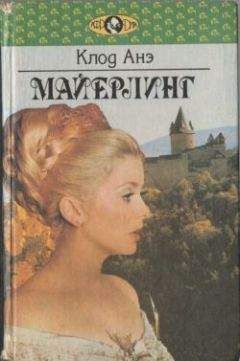Николай Чернышевский - Мастерица варить кашу
Клементьев. Но быть может, они не могли повенчаться. Быть может, он был женат.
Надя. Нет, Платон Алексеич.
Клементьев. Или ваша матушка уже имела мужа.
Надя. Такой человек не мог обольщать чужих жен, и моя мать не могла изменить мужу.
Клементьев. Это слишком большое незнание жизни; иногда и самые лучшие люди отступают от правил житейского порядка. Это не бесславие, когда то необходимо и когда наши побуждения чисты.
Надя. Я понимаю, Платон Алексеич. Но я не хочу верить тому ни о моей матери, ни о честном человеке, которого называют моим отцом. Она не была его любовницею, он не имел любовницы, — так я хочу верить, Платон Алексеич. Я хочу верить, что мой отец был муж моей матери, что они были бедны, что мой отец умер, что благородный человек, которого напрасно называют моим отцом, был друг их и когда моя мать, — беременная мною, потеряла мужа и осталась без куска хлеба, он стал заботиться о вдове, — а когда стал умирать сам, просил своих родных не отказать в приюте бедной беременной вдове его друга. (Печально улыбается.) Вы видите, какую неправдоподобную историю придумала я, чтобы сохранить полное уважение ко всем, кого люблю. Вы скажете: а мое отчество, Всеволодовна, — как же это? Я и на это придумала ответ: моя мать уже умерла, когда крестили меня; кто мог верить, что молодой человек, покровитель молодой женщины, не любовник ее? Если она и сказывала имя истинного моего отца, они все подумали: она лжет, — и когда выбирали для меня отчество, выбрали не по ее словам, а по своей уверенности. Скажите, все это неправдоподобно?
Клементьев. Неправдоподобно, мой друг; но нет надобности находить это вероятным, чтобы сохранить полное уважение к вашей матери и Всеволоду Серпухову — кто бы ни был он вам, отец или нет.
Надя. Вот, я и вперед знала, что вы не поверите. А все-таки, я остаюсь убеждена, что Всеволод Серпухов не был моим отцом, и что я вовсе не родня Агнесе Ростиславовне.
Клементьев (помолчавши). То, что вы придумали, мой друг, неправдоподобно. И однакож это может быть правдою. Ваши доказательства вовсе не убедительны: они основаны только на чувстве, и даже меньше, нежели на чувстве: только на предубеждении. Но мне пришло в голову: как же в самом деле поехала бы ваша мать к родным Всеволода Серпухова, если бы была его любовницею? Это нравственная невозможность. Да, я вижу: история вашей матушки понятна только при том предположении, какое делаете вы. Да, я сам почти готов сказать, что вы не родня Агнесе Ростиславовне. Но скоро ли, наконец, придет эта любительница рыбочек и козявочек?
Надя. Платон Алексеич, я не хочу, чтобы вы говорили с нею. Решительно не хочу итти за вас.
Клементьев. Почему же вы не хотите, когда любите меня?
Надя. Мы довольно говорили об этом.
Клементьев. Нет, мало. В ваших словах попалась мне фраза, что вы не жалуетесь на свою судьбу, что вам жить лучше, нежели многим другим.
Надя. Что ж, это правда, Платон Алексеич.
Клементьев. Вот в этом-то вашем довольстве и заключается истинная причина того, что вы не соглашаетесь на мою просьбу. Мысли о неудобствах неровного брака, — справедливые ли, нет ли, не имели бы сами по себе большого веса. Но вы думаете, что вам здесь хорошо, и вы боитесь потерять это хорошее положение.
Надя (подумав). Правда, Платон Алексеич. Я сама не замечала, что это главная причина. Но точно, она главная. Страшно и неблагоразумно решаться на перемену судьбы, как судьба хороша.
Клементьев. Так. Но вы ошибаетесь в том, что применяете это правило к себе. Разве вам хорошо жить?
Надя. Хорошо, Платон Алексеич. Вы сам видите, все эти люди добры ко мне.
Клементьев. При посторонних.
Надя. И без посторонних. Никто не делает ни малейшей неприятности мне.
Клементьев. Уверяйте.
Надя. Разумеется, невозможно жить на свете совершенно без всяких неприятностей. Но если бы кто хотел обидеть меня, все боятся, потому что Агнеса Ростиславовна очень расположена ко мне и я справедливо люблю ее.
Клементьев. Я и не имею ничего против вашей любви к ней: она добрая женщина, я сам готов защищать ее от лишних порицаний. Но она прихотница, — ей нечего делать, — я вижу, какую беготню ежеминутно подымает она от безделья. Когда такая суетня с нею каждому из них, сколько же хлопот вам, ее горничной?
Надя. Я и не хочу скрывать, Платон Алексеич: мне очень много хлопот. Но жить можно.
Клементьев. Но завидна ли такая жизнь?
Надя. Дело не в том, завидна ли; только сносна ли. Когда сносна, человек моего состояния должен иметь одно желание: пусть продлится так, не было бы хуже.
Клементьев. Апатия невольничества, Надежда Всеволодовна.
Надя. Скажите проще, Платон Алексеич: для меня не совсем понятно слово апатия.
Клементьев. Робость, трусливость рабов.
Надя. Нет, Платон Алексеич: только благоразумие бедных людей. Но кто-то идет. Дайте же мне слово, что не будете говорить с Агнесою Ростиславовною.
Клементьев. Буду говорить, Надежда Всеволодовна. (Входит Иннокентиев.)
Явление 16
Иннокентиев. Продолжим нашу прерванную беседу. Ты должна, милая Наденька, услышать от меня советы, внушаемы искренним расположением…
Клементьев. Мы с Надеждою Всеволодовною не сомневаемся в нем, но не беспокойтесь за наше благоразумие: мы оба будем молчать о ее родстве с Агнесою Ростиславовною.
Иннокентиев. Честное слово?
Клементьев. Извольте, честное слово.
Иннокентиев. Не только за себя, но и за нее?
Клементьев. И за нее.
Иннокентиев. Ну, и слава богу! И прекрасно! Милая Наденька, Агнеса Ростиславовна сейчас придет, подогреты ли духи и вода?
Надя. Подогреты.
Иннокентиев. А чисты ли у тебя руки?
Надя. Чисты.
Иннокентиев. Нет, лучше покажи (смотрит руки ее, в особенности ладони). Хорошо, чисты; теперь я спокоен. Иди теперь туда, где там эти духи и миса, и стой и будь готова принести по первому зову. (Надя уходит.)
Явление 17
Иннокентиев. Ну, слава богу, Платон Алексеич, что ваши поступки и слова будут благоразумны и приятны Агнесс Ростиславовне. Но должно привести и самые ваши чувства к ней в более полное соответствие с долгом справедливости. Это будет легко, потому что вы уже знаете факты, надобно только истолковать вам их нравственное значение. К дяде приезжает любовница племянника, — как принимают подобных женщин люди, справедливо негодующие на их разврат и проклинающие вредное их влияние на судьбу своих молодых родных? Но отец Агнесы Ростиславовны принимает мать Нади с великодушным гостеприимством — какая возвышенность души, не правда ли? — Вместо вражды, — любовь; вместо побиения камнями — кусок хлеба, и не только кусок хлеба, все удобства жизни, почти до роскоши. Мало того: чтобы бедная преступница могла забыть гнусность своего разврата, запрещается говорить о том, кто она. Многие догадываются, но все молчат, соблюдая великодушную волю господина. Она умирает, к нравственному счастию своей малютки дочери, которая спасена тем от ее гибельного влияния, — и господин, видя в том перст провидения, с мужественным благородством вводит своих домочадцев на стезю нового великодушия, тем указываемую. Малютка не будет знать о своем позорном происхождении, от юной души будет скрыт всеобщим молчанием стыд ее матери! — Умирает великодушный хранитель первых лет Нади, власть переходит к молодой и нежной женщине, — что же? — о, конечно, она уступит стыдливому возмущению своего скромного сердца. Те зрелища, которые переносит старец, привыкший видеть порочность людей, наполняют невыносимым негодованием душу юную, деликатную и чистую. Но Агнеса Ростиславовна твердою стопою идет по стезе отца! И у нее, слабой женщины, достает силы молчать и ласкать, подавляя все свои справедливейшие чувства стыдливого отвращения от порока и порочных воспоминаний, которых символом служит Надя. Откуда эта сила сердца, великодушного до высоты, едва постижимой? Откуда? От ангельской природы этого воплощенного милосердия! О, боже! Как велика милость твоя к нам, что ты даешь нам на земле предвкушать сладость общежития с существами небесными! (В промежутках самых возвышенных терминов сморкается.) О, милый друг, Платон Алексеич! Слезы текут из глаз моих, и я, не видя лица твоего сквозь туман их потоков, знаю: также плачешь от умиления и ты! Блаженны плачущие такими слеза… (Начинает реветь, закрываясь платком.)