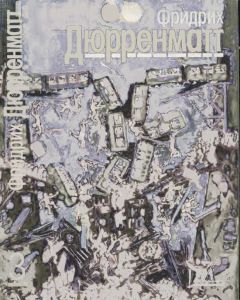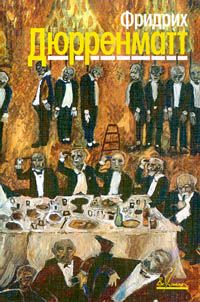Фридрих Дюрренматт - Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Пьесы и радиопьесы
Писатель (усталым, печальным голосом). Блаженные! Блаженные дурачки — вот кто они! Кому нужна такая смерть? Если уж оказался в лапах палача, неважно, какую позу принимать. Партия проиграна.
Палач. Не скажите!
Писатель. Ты скромный человек, палач. Но сегодня победил ты.
Палач. Я всего лишь рассказываю, чему я научился у тех, кто был невиновен и принял смерть со смирением.
Писатель. Ого! Ты учишься у невиновных, которых убиваешь? Вот это практичный человек!
Палач. Смерть каждого из них навсегда запечатлелась в моей памяти.
Писатель. У тебя, должно быть, феноменальная память.
Палач. Я только об этом и думаю.
Писатель. И чему же научили тебя невиновные и смиренные?
Палач. Пониманию того, с чем я могу совладать в человеке, а что мне неподвластно.
Писатель. Разве твоя власть не безгранична?
Молчание.
Ну? Что ж ты молчишь? Раз уж мы дошли до такой степени деградации, что палачам только и позволено философствовать, валяй, философствуй.
Палач. Сударь, власть, которая мне дана и которую я осуществляю собственными руками: серебряный полукруг опускающегося топора, сверкнувшая во мраке ночи молния карающего кинжала или петля, мягко набрасываемая на шею жертвы, — все это лишь малая толика власти тех, кто на этой земле творит насилие над людьми. Они убивают моими руками, они находятся сверху, я — внизу. У них множество оправданий — от самых возвышенных и одухотворенных до самых низменных; мне оправдания не нужны. Они приводят мир в движение, я же — та неподвижная ось, вокруг которой вращается их страшное колесо. Они правят, пугая людей моим мрачным ремеслом; в моих забрызганных кровью руках их власть обрела последнюю, окончательную форму, как гной обретает форму в нарыве. Я нужен, ибо насилие и зло неразделимы. И когда я, как в этот миг, сижу в свете настольной лампы перед своей жертвой и сжимаю под складками поношенного плаща рукоять кинжала, на меня обрушивается презрение. Позор убийства снимается с сильных мира сего и возлагается на мои плечи. Мой удел — нести на себе бесчестие властей предержащих. Меня боятся. Перед теми же, кто наверху пирамиды, не только трепещут — ими восхищаются. Вызывая зависть, они наслаждаются своими сокровищами, ибо власть полна соблазнов. Вместо ненависти они пожинают любовь. За всесильными тянется стая сообщников и клевретов. Словно псы, они подхватывают крохи власти, которые роняет властитель, и употребляют их себе на пользу. Темная власть силы и страха, алчности и бесчестия стягивает их в тугой клубок и в конце концов рождает палача, которого боятся больше, чем меня, — тиранию. Она бесконечными рядами загоняет на свои живодерни все новые и новые массы людей, этот процесс лишен смысла, потому что тирания ничего не меняет, она лишь уничтожает. Одно насилие влечет за собой другое, один деспотический режим сменяет другой, и так без конца, по нисходящей спирали, ведущей в ад!
Писатель. Замолчи!
Палач. Вы же хотели, чтобы я говорил.
Писатель (в отчаянии). От тебя не уйти!
Палач. Ваше тело, сударь, подвластно силе, ибо ей подвластно все, что распадается в прах, но моя власть не распространяется на то, во имя чего вы боролись. Это не подлежит распаду. Вот чему я, палач, презренный человек, научился у невиновных, которых настиг мой топор и которые не защищались. Когда человек в час своей безвинной смерти смиряет гордыню и отказывается от своих прав, отбрасывает страх, чтобы умереть, как умирают дети, не проклиная мир, то эта победа выше любой победы сильных мира сего. В тихой кончине смиренных, в их умиротворенности, которая, как молитва, захватывает и меня, проявляется чудовищная несправедливость смерти, противоречащая рассудку. В этих вещах, ничтожных в глазах людей, способных вызвать у них только усмешку или пренебрежительный жест, обнаруживается бессилие неправых, несущественность смерти и реальность подлинного, над которым я не властен, которое нельзя отдать в руки палача или бросить в тюрьму, о котором я знаю только то, что оно существует. Всякий, кто творит насилие, заключен в мрачное, лишенное проблеска света подземелье собственной сути. Если бы человек состоял только из тела, сударь, для власть имущих все было бы очень просто: они могли бы строить свои царства, как возводят стены — кирпич к кирпичу, — пока весь мир не окажется в каменном мешке. Но какими бы громадными ни были построенные ими дворцы, какими бы несметными ни были их богатства, как бы ни поражали воображение их замыслы и ни вводили в заблуждение их интриги — в тела обиженных и оскорбленных, чьими руками создается все вокруг, в этот хрупкий материал вложено знание о том, каким должен быть мир. Они помнят, для чего Господь сотворил человека, и верят, что нынешний мир обречен на гибель. Только когда он погибнет, наступит царство Божие. Эта вера сильнее взрывной силы атома, она все больше меняет облик человека, это как закваска в его инертной массе, снова и снова взрывающая бастионы насилия, или как вода, что мягкой струей размывает неприступные скалы и превращает их в песок, рассыпающийся в руке ребенка.
Писатель. Прописные истины! Ничего, кроме прописных истин!
Палач. Сударь, сегодня на карту поставлены самые что ни на есть прописные истины.
Молчание.
Писатель. Сигарета докурена.
Палач. Хотите еще одну?
Писатель. Нет, хватит.
Палач. Шнапсу?
Писатель. Тоже не хочу.
Палач. Ну, так как?
Писатель. Закрой окно. Появился первый трамвай.
Палач. Окно закрыто, сударь.
Писатель. Я хотел поговорить со своим убийцей о возвышенном, а вышло, что палач раскрыл мне глаза на элементарное. Я боролся за лучшую жизнь на земле, за то, чтобы человека не использовали как вьючное животное, чтобы его не заставляли в поте лица добывать хлеб богачам. Я боролся за свободу, за то, чтобы мы были не только хитрыми, как змеи, но и нежными, как голуби, за то, наконец, чтобы люди не подыхали в своих хижинах, не падали замертво на каменистой пашне и не испускали дух в твоих кровавых руках. Я боролся, чтобы искоренить страх, чтобы исчез недостойный человека ужас перед твоим ремеслом, палач. Это была борьба за элементарные вещи. Только в печальные времена надо бороться за то, что разумеется само собой. Но когда наступает урочный час и твоя мощная фигура неведомо откуда появляется в комнате, — тогда снова можно быть смиренным, тогда на карту ставится не элементарное, а нечто совсем другое: прощение грехов наших, мир нашей души. Наша дальнейшая судьба решается уже без нас, мы над ней больше не властны. Мы честно сражались, и нас не в чем упрекнуть, хотя мы и потерпели поражение. То, что мы совершили, не пропало даром. Борьбу продолжат другие, ее подхватят в другом месте, в любое время. Погаси лампу, палач, первые лучи рассвета не дадут тебе промахнуться.
Палач. Как вам будет угодно, сударь.
Писатель. Мне так угодно.
Палач. Вы встаете.
Писатель. Больше мне нечего сказать. Час пробил. Доставай кинжал.
Палач. Вам хорошо в моих руках, сударь?
Писатель. Лучше некуда. Кончай.
Процесс из-за тени осла
Голоса
Струтион — зубной врач
Антракс — погонщик ослов
Кробила — его жена
Филиппид — городской судья
Мильтиад — асессор
Фисигнат — адвокат Струтиона
Полифон — адвокат Антракса
Пелида — модистка, возлюбленная Мастакса
Мастакс — кузнец-оружейник, брат Тифида
Тифид — капитан пиратского судна
Ирида — его невеста
Стробил — старший жрец, покровитель Антракса
Телезия — танцовщица
Агатирс — верховный жрец, покровитель Струтиона
Председатель Общества защиты животных
Председатель Общества иностранного туризма
Директор акционерного общества «Мрамор»
Агитатор
Гипсибоад — председатель сената
Пфриме — цеховой мастер
Фукидид — директор Оружейного акционерного общества
1-й человек — посланец партии Тени
2-й человек — посланец партии Осла
Караульный
Осел
Пиропс — брандмейстер
Полифем — фельдфебель
Персей — фельдфебель
Нищий
Книготорговец
Глашатай