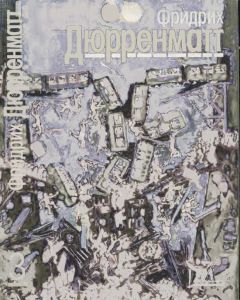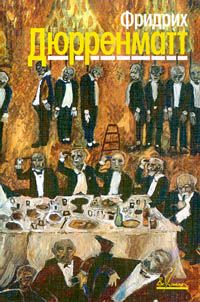Фридрих Дюрренматт - Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. Пьесы и радиопьесы
Я не причисляю себя к авангардистам, хотя и у меня, разумеется, есть своя теория искусства… Чем бы дитя ни тешилось. Но свою теорию я держу при себе (иначе мне самому пришлось бы следовать ей). Пусть уж лучше меня считают эдаким взбалмошным простаком, который пренебрегает формой своих творений. Мои пьесы надо играть в духе народного театра, а меня самого воспринимать как своего рода Нестроя[31]. Это будет самое правильное. И не следует бояться моих выдумок, к черту всякое глубокомыслие. Надо также следить за тем, чтобы декорации все время менялись при открытом занавесе. Сцену с машиной следует играть просто, лучше всего с макетом автомобиля, в котором есть только то, что необходимо по ходу действия, — автомобильные ключи, руль и т. д. Машина должна быть показана спереди — задние сиденья надо приподнять. И все это должно быть, конечно, новенькое, с иголочки, так же как и желтые башмаки и прочее. (Эта сцена ни в коем случае не должна напоминать Уайлдера[32]. Почему?.. Еще одна диалектическая загадка для критиков.)
Клара Цаханассьян не олицетворяет ни справедливости, ни плана Маршалла и тем более Апокалипсиса, она лишь то, что она есть, — самая богатая в мире женщина, которая благодаря своему состоянию получила возможность действовать наподобие героини древнегреческой трагедии, самовластно и жестоко, как, например, Медея. Клара Цаханассьян может себе это позволить. И не надо забывать, что у этой старой дамы есть чувство юмора, поскольку она может смотреть на людей со стороны; для нее люди — товар, который она покупает. Но и на себя она тоже смотрит со стороны, что придает ей своеобразную грацию и некое злое очарование. Клара стоит как бы вне общества, поэтому она превращается в нечто неподвижное, окостеневшее. Никаких перемен в ней не происходит, если не считать переменами тенденцию ко все большему окаменению, к превращению в полного истукана. Однако изображать Клару Цаханассьян и ее свиту, включая кастратов, на сцене можно только средствами искусства. Натурализм здесь противопоказан — он будет слишком неаппетитен. Тихони кастраты должны быть сказочными существами, призрачными гномиками, живущими растительной жизнью, по-своему даже счастливыми. Они жертвы тотальной мести, которая так же логична, как законы доисторических времен. (Чтобы актерам было легче играть евнухов, они могут говорить не хором, а по очереди, но тогда не нужны повторы.)
Клара Цаханассьян — образ статичный. Она героиня с самого начала. В отличие от Клары ее прежний возлюбленный волею судеб превращается в героя лишь постепенно. Этот жалкий лавочник, сам того не ведая, сразу же становится ее жертвой. Будучи виновным, он убежден, что время списало все его грехи. И лишь по ходу пьесы страх и отчаяние пробуждают в этом заурядном человеке нечто в высшей степени индивидуальное. Осознав свою вину, он начинает понимать, что такое справедливость; неизбежная гибель придает ему величие. (Сцена смерти Илла должна быть решена скорее в плане монументальном.) Гибель Илла бессмысленна и в то же время осмысленна. Если показывать ее только осмысленной, то в ней появится нечто легендарное, и играть ее надо будет в некоем античном городе, а не в Гюллене в наши дни. Что касается остальных гюлленцев, они такие же люди, как мы все. Их не следует изображать злодеями. Ни в коем случае. Вначале они полны решимости отвергнуть предложение миллиардерши. Правда, они влезают в долги, но отнюдь не потому, что решили умертвить Илла, — они просто люди легкомысленные. И они искренне верят, что в конце концов «все перемелется». Так надо трактовать второе действие и даже сцену на вокзале. Один лишь Илл в этой сцене объят страхом, ибо он понимает, чем все должно кончиться. Но гюлленцы еще не сказали ни одного непоправимого слова. Только во время сцены в Петеровом сарае происходит роковой перелом. От судьбы не уйдешь! С этой минуты гюлленцы постепенно начинают готовиться к убийству, возмущаться виной Илла и т. д. Семья Илла по-прежнему уговаривает себя, что все образуется, но и эти люди тоже не злодеи, они просто слабохарактерны, как и все остальные. Весь город, что видно на примере учителя, медленно поддается искушению, ибо искушение велико, а нищета беспредельна.
«Визит старой дамы» — злая пьеса, именно поэтому трактовать ее следует как можно более гуманистически. И персонажи должны проявлять не гнев, а печаль. И еще: эта комедия с трагическим концом должна быть смешной. Ничто не может так сильно повредить ей, как убийственная серьезность.
Ночной разговор с палачом
Голоса
Писатель
Палач
Дребезжит оконное стекло.
Писатель (громким, спокойным голосом). Входите.
Тишина.
Входите! Раз уж вы взобрались на карниз, нелепо оставаться за окном на такой высоте. Я вас отлично вижу. Небо у вас за спиной все еще светлее, чем сумрак в этой комнате.
Грохот упавшего на пол предмета.
Вы опрокинули настольную лампу…
Палач. Тысяча чертей!
Писатель. Зачем шарить по полу? Сейчас я включу свет. Щелкает выключатель.
Палач. Благодарю.
Писатель. Так-так. Вот и вы. Куда приятнее разговаривать, когда видишь, с кем имеешь дело. Так вы, стало быть, уже в годах.
Палач. А вы ждали кого-нибудь помоложе?
Писатель. Пожалуй, тут вы недалеки от истины. Поднимите заодно настольную лампу. Она лежит справа от стула.
Палач. Извините.
Падает и разбивается ваза.
Палач. Две тысячи чертей! На этот раз я уронил китайскую вазу.
Писатель. Греческий кубок для вина…
Палач. Разлетелся вдребезги… Мне очень жаль.
Писатель. Не беспокойтесь. У меня вряд ли останется шанс пожалеть о случившемся.
Палач. В конце концов, это не мое дело — лазить по карнизам и вламываться в квартиры. Чего только не требуют от нас сегодня, черт бы побрал эту работенку… Я был и впрямь очень неловок, простите великодушно.
Писатель. С каждым может случиться.
Палач. Я полагал…
Писатель. Вы полагали, я сплю в другой комнате. Откуда вам знать, что я сумерничаю за письменным столом.
Палач. Нормальные люди в это время спят.
Писатель. Да, в нормальные времена.
Палач. Ваша жена…
Писатель. Не беспокойтесь. Моя жена умерла.
Палач. У вас есть дети?
Писатель. Сын — в концлагере.
Палач. А дочь?
Писатель. У меня нет дочери.
Палач. Вы пишете книги? Сколько у вас книг!
Писатель. Я писатель.
Палач. А ваши книги кто-нибудь читает?
Писатель. Их читают всюду, где они запрещены.
Палач. А где не запрещены?
Писатель. Там их ненавидят.
Палач. У вас есть секретарь или секретарша?
Писатель. Видимо, в ваших кругах ходят вздорные слухи о доходах писателей.
Палач. Стало быть, в данный момент в квартире, кроме вас, нет никого?
Писатель. Никого.
Палач. Это хорошо. Нам нужна полная тишина. Надеюсь, вы понимаете?
Писатель. Само собой.
Палач. Вы поступаете умно, не чиня мне препятствий.
Писатель. Вы пришли меня убить?
Палач. Мне поручено сделать это.
Писатель. Вы убиваете по заказу?
Палач. Это мое ремесло.
Писатель. У меня было предчувствие, что в нашей стране появились профессиональные убийцы.
Палач. Они были всегда. Я палач на государственной службе. Вот уже пятьдесят лет.
Молчание.
Писатель. Вот как… Ты, значит, палач.
Палач. Вы ждали кого-то другого?
Писатель. Да нет. Собственно говоря, нет.
Палач. Вы достойно встречаете свою участь.
Писатель. А ты мастак говорить красиво.
Палач. В последнее время я все чаще имею дело с образованными людьми.
Писатель. Раз образование связано с риском, значит, все идет как надо. Присаживайся.
Палач. Я примощусь на краешке стола, если позволите.
Писатель. Чувствуй себя как дома. Могу предложить шнапс.
Палач. Спасибо. Но сначала дело. Перед этим я никогда не пью. Чтобы рука не дрогнула.
Писатель. Понимаю. В таком случае тебе придется угощаться самому. Шнапс я купил специально для тебя.
Палач. Вы знали, что приговорены к смерти?
Писатель. В этой стране к смерти приговорены все. Человеку не остается ничего другого, как сидеть у окна, смотреть в беспредельное небо и ждать.