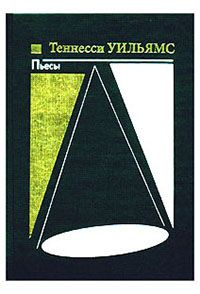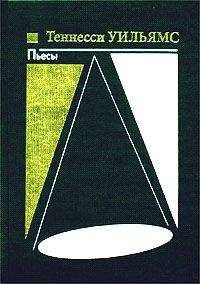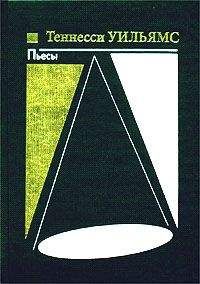Теннесси Уильямс - Желание и чернокожий массажист. Пьесы и рассказы
Когда Изабел Холли вернулась домой, она действительно обнаружила в своей спальне спящего мужчину. Остановилась на пороге и затаила дыхание — что делать? Однако, какой он красивый! Он лежал в новенькой форме морского офицера, которая сверкала, как только что выпавший снег на ярком солнце. Тесьма с рубиновыми заколками окаймляла плечи. Пуговицы — аквамариновые. Из-под расстегнутого кителя видна его красивая грудь, усеянная золото-алмазными бусинками пота.
Он приоткрыл один глаз, подмигнул ей, пробормотал: «Привет!» и, медленно перевернувшись на живот, снова заснул.
Она стояла, не зная, что предпринять. Потом немного походила по дому, удивляясь происшедшим в ее отсутствие переменам.
Дом был теперь в идеальном порядке. Чистота такая, будто здесь славно поработал полк слуг, который вылизал все до блеска в течение нескольких дней. Старая и ржавая посуда сложена внизу и ждала мусорщика. «Эту дрянь — сдать», — было написано в лежащей рядом записке почерком командира. Среди вещей, предназначенных ее чудесным гостем к отправке на свалку, были и вещи покойного мистера Холли: желудочный зонд, великолепно обрамленная фотография его матери в чрезмерно открытом платье, миска с бараньим жиром, которым он мазался три раза в неделю, вместо того чтобы мыться, девятисотсемидесятистраничная нотная тетрадь с произведением под названием «Меры наказания» — он безуспешно пытался его исполнять на духовом инструменте собственного изобретения; все эти реликвии теперь обречены на уничтожение.
— Чудеса продолжаются! — воскликнула миссис Холли, поднимаясь наверх.
Нерешительность и апатия, ранее присущие вдове Холли, вдруг впервые уступили место легкости и даже легкомысленности: она устремилась в верхние комнаты безо всяких усилий — так с восходом солнца от воды поднимается туман и растворяется в ярких лучах. Наверху было не слишком много света, даже в гостиной, окна которой смотрели на Бербон-стрит; куда больше света исходило из неприкрытой груди молодого командира, лежавшего сейчас в ее спальне. И чтобы узнать время, ей пришлось нагнуться к часам словно для поцелуя. Семь часов — как летит время!
Вдова не была простужена, но поскольку ее одежда сейчас лежала в гостиной у камина, она начала чихать. Чихала и чихала. Все мускулы ее молодого, но остудившегося тела стали дрожать мелкой дрожью. Это происходило еще и потому, что в доме стоял сквозняк из-за непрерывно открывавшихся и закрывавшихся дверей — будто какие-то бесплотные существа носились по комнатам. А надо всем господствовало нечто особенное: создавалось впечатление, что кто-то держал над дерзким языком пламени яблоко в сахаре, подвешенное на металлической вилке, держал до тех пор, пока кожура не почернела и не треснула, — из яблока потек сладкий сок и стал капать в огонь. И аромат этого печеного яблока наполнил весь дом — все его студеные и полутемные комнаты, наверху и внизу. Аромат, который бывает в церкви во время Рождественского поста.
КАРАМЕЛЬ[90]
Жил однажды в американском южном портовом городе семидесятилетний коммерсант-пенсионер по фамилии Круппер, человек с большим и непривлекательным лицом. Близких родственников у него не было. Когда-то он являлся владельцем маленькой кондитерской, которую потом продал своему дальнему родственнику (кузену в каком-то колене) — человеку, значительно более молодому, нежели он сам. С его родителями (их теперь уже нет в живых) он эмигрировал в Америку свыше пятидесяти лет назад. Однако мистер Круппер не забыл про магазин, чем доставлял кузену, его жене и их двенадцатилетней дочери массу огорчений. Дочку мистер Круппер с его неискоренимой любовью к допотопным остротам называл не иначе, как «маленьким совершенством большого мира». Правда, прозвище это изобрел сам кузен, когда ей было пять лет и когда ее склонность к полноте еще не так обнаруживала себя, как теперь; ныне же оно звучало издевкой, хотя мистер Круппер спрашивал «как там наше маленькое совершенство большого мира?» вполне благожелательно. И при этом обычно трепал девочку по щеке или по плечу, а ребенок резко отвечал: «Убирайся!» Но мистер Круппер не реагировал, потому что из-за высокого давления у него звенело в ушах, и он слышал только тогда, когда кричали. По крайней мере, делал вид, хотя уверенности в этом быть не могло. Насколько он прост, — никто не знал.
Старые больные люди находятся от мира на определенной дистанции, но каждый раз на разной. То они дрейфуют в каком-то невидимом море на тысячу миль от ближайшего берега, с парусами, развернутыми в обратном направлении, и, кажется, не ведают, что происходит в мире. А то вдруг становятся такими чувствительными, что улавливают малейшее движение, легчайший шорох на берегу. Но так как, в целом, их чувства, словно кожа, от старости грубеют, неприязни и ненависти они не ощущают. И мистер Круппер, видимо, даже не догадывался, как кузен со своей семьей относится к его утренним появлениям в магазине. Как только он приходил, они ретировались во внутренние комнаты (если только их не задерживали покупатели); но мистер Круппер терпеливо ждал, когда кто-нибудь из троих к нему все же подойдет. «Не спешите, — любил говорить он, — чего-чего, а времени у меня навалом». И никогда не покидал магазин, не зачерпнув совком карамелек; он насыпал их в пакетик, а пакетик клал в карман — такова уж у него привычка. Это раздражало родственников больше всего, но поделать они ничего не могли.
С тех пор, как кузен и его семья стали владельцами магазина, они отнюдь не процветали; им едва удавалось заработать больше, чем они должны были выплачивать мистеру Крупперу в процентах от стоимости сделки. Потому-то им и приходилось терпеть его грабеж. Однажды кузен заметил, что у мистера Круппера, должно быть, очень хорошие зубы, раз он ест так много карамелек, но тог сказал, что их ест не он. «А кто же?» — спросил кузен, на что старик с желтозубой улыбкой ответил: «Птички!» И правда, они никогда не видели, чтоб он съел хоть одну конфету. Иногда карамельки скапливались в пакете и тот оттопыривал карман, словно у старика выросла огромная опухоль. А иной раз пакет таинственным образом истощался, становился совершенно плоским и едва виднелся из-под замасленного темно-синего клапана кармана. И тогда кузен говорил жене или дочке: «Наверное, птички были голодными!» Эти сердитые, злые шуточки — с незначительными вариациями — продолжались в течение очень долгого времени. Силу неприязни семьи кузена к старику трудно было измерить, равно как и степень равнодушного отношения мистера Круппера к поведению родственников. В конце концов ведь ничего серьезного не происходило: ну, причинял им старик убыток на два — три цента в день; ну, обменивались они несколькими совершенно безобидными фразами — и что из того? Но длилось это долго — много лет.
Стоит сказать, что члены семьи кузена, не обладавшие особым воображением, даже самим себе не могли признаться в беспросветной монотонности своей жизни, в душераздирающей безысходности своего упрямого желания продолжать дело и преуспеть в нем. Ко всему прочему, девушка все время полнела — надувалась, как резиновая игрушка. Ни на миг не сосредоточивая на этом внимания и даже не сознавая, что делает, она то и дело бросала в рот карамельки, а когда ее останавливали, горько плакала и совершенно искренне уверяла, что не знает, как это произошло. А через пять минут все повторялось сначала, ей давали по пухлым рукам, и она вновь плакала, и все забывала. Еще в школе ее прозвали «толстуха» — приходила домой и рыдала. Теперь она стала тучнее своих тучных родителей и продолжала набирать в весе. К тому же у нее развилась дурная, не подобающая женщине привычка: ей ничего не стоило рыгать в присутствии покупателей или выходить к ним с текущим носом. Все эти неурядицы стали ассоциироваться в сознании членов семьи кузена с регулярными утренними визитами старого мистера Круппера; они уверяли себя, что именно из-за старика все беды и происходят…
Излагая эту историю, мы должны будем — и весьма скоро — поведать о мистере Круппере нечто такое, о чем рассказывать сразу в столь кратком повествовании неудобно. В жизни сугубо натуралистические проявления, включающиеся в чрезвычайно широкий ее контекст, смягчаются и находят там свое место. Но когда касаешься их в рассказе, то требуются определенные ухищрения, чтобы обеспечить такой же — или примерно такой же — сглаживающий эффект, как это бывает в жизни. Когда я говорю, что в жизни мистера Круппера была некая тайна, я прибегаю к тем самым намекам, которые крайне необходимы в этом случае, потому что излишний натурализм может вызвать у читателя отвращение и испортить рассказ, фактически извратить всю историю.
Если вы кого-нибудь презираете или ненавидите, как кузен с семьей — мистера Круппера, предполагается, что об этом человеке вы знаете практически все самое важное. Но если этот человек для вас — загадка, ваша враждебность к нему станет неоправданной. Никакой тайны в жизни старика кузен с семьей не видели. Иногда, когда он выходил из магазина, кузен или жена кузена провожали его до двери, а затем стояли и наблюдали, как он ковыляет дальше: рука охватывает карман (где лежит пакет с карамелью), словно там сидит птица, готовая вылететь наружу. Ими руководило отнюдь не любопытство и не забота о старике. Так смотрят на камень, о который только что споткнулись, — бессмысленный злой взгляд обращается на бесчувственный вредный предмет. Оба, кузен и жена, были настолько толсты, что вместе в дверях не помещались; поэтому за мистером Круппером наблюдал тот, кто успевал первым. И когда старик исчезал из виду, с отвращением говорилось «Тьфу!»; этим «Тьфу!» они словно затрагивали существо той тайны, к раскрытию которой мы приближаемся с такой осторожностью. Ну, а тот, кто не успевал, оставался внутри. Спектакль из магазина виден не был — приходилось довольствоваться комментариями; а комментировать было почти нечего — ничего существенного со стариком не происходило. Тот, кто стоял в дверях, сообщал: «Он что-то нашел на тротуаре!» — «Тьфу! Что, что именно?» (Не дай Бог что-нибудь ценное!) И к удовольствию слышалось в ответ: «Выбросил — через несколько шагов!» Или комментатор говорил: «Он смотрит на витрину». — «На какую?» — «Магазина мужского белья». — «Тьфу! Да он же никогда ничего не покупает!» Обычно репортаж оканчивался так: «Он перешел через улицу и идет на площадь! Пришел. Тьфу!» Создавалось впечатление, что мистер Круппер проводит на площади все утро каждый раз, когда он посещает кондитерскую. Что же касается пристального наблюдения, комментариев и всех этих «Тьфу!» (символов презрения), то они не могли выражать подлинного интереса, заботы или даже простого любопытства, а воплощали собой совершенно бесчувственное отношение ко всему, у чего, как считалось, не должно быть никаких тайн.