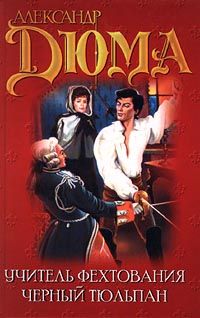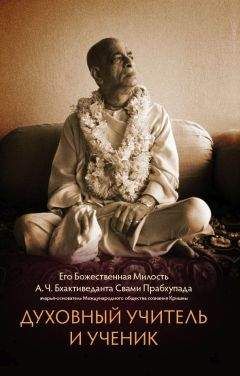Леонид Леонов - Избранное
Именно Жеглова и вызвали по телефону, когда начались преждевременные роды. Нижняя жилица привела акушерку. Та кипятила воду на примусе и курила толстую дымучую папиросу, когда приехал Жеглов; затягиваясь она равнодушно глядела в просвет на заиндевелом окне: там, на улице, подыхала близ сугроба кляча. Акушеркина брата, юнкера, застрелили в октябрьских боях, и с тех пор она почитала нравственным долгом ненавидеть большевиков; ненавидела она, впрочем, не особенно пламенно, так как недолюбливала и братца. У неё на лбу, в землистой борозде, прятался прыщ, и Наталье всё казалось, что такая непременно ткнёт её папиросой в голый живот. Тем сильней она обрадовалась Жеглову, который ещё с порога начал доставать из кармана яблоко. Затем, присев возле, он рассказывал невероятные истории, как, например, и ему однажды довелось действовать за повивальную бабку. Наталья не смеялась и, кутаясь в шубку всё косилась на акушерку, вынимавшую из кипятка сверкающие инструменты, атрибуты ремесла. Вдруг лицо Натальи стремительно пророзовело, и яблоко покатилось из откинутой руки.
— Ну, родитель, ступайте покурить… — оживилась акушерка и вытолкнула Жеглова, который от растерянности кинулся прежде всего поднимать яблоко.
Обжигали его затуманившиеся наташины глаза; кроме того, видевший расстрел рабочей демонстрации, он на выносил женского вопля. Как был, без шапки, Жеглов выскочил на площадку лестницы. Дверь, снабжённая автоматическим замком, захлопнулась. Жеглов остался один.
III
Снизу дул в разбитую дверь почти полярный холод; окна тоже не имели стёкол, и снежинки привольно резвились в сумерках лестничного провала. Обвиваемый сквознячками, Жеглов усердно топтался на месте и всё вскидывал на нос спадающее пенсне. Рубашка из синей бумазейки, какой раньше обклеивали футляры, вовсе не согревала. Когда стали коченеть ноги, он принялся поплясывать энергичней, даже соблюдая подсознательный ритм. Дверь, соседней квартиры открылась, и человек внушительных размеров, да и возрастом не менее пятидесяти вынес за дверь помойное ведро. Неторопливо отжав мокрую тряпку, он искоса взглянул на Жеглова и прислушался к крикам, которые сочились и сквозь войлочную обивку. Тогда, застенчиво улыбнувшись, Жеглов стал сморкаться.
— Ничего, валяйте, — сказал человек с тряпкой.
— Дует очень, — пожаловался сквозь зубы Жеглов.
— Зима, — рассудительно определил тот. — Брат?
— Не совсем.
— Э, дядя! — догадался тот, не допуская никакого родства, кроме физического, которое толкнуло бы на такую жертву.
— Знаете что… И не дядя!
Человек с тряпкой меланхолически почесал переносье:
— Да, можно простудиться — январь, — и неторопливо захлопнул дверь.
Так прошло минут пять; шнурочек пенсне покрывался лёгким инеем от дыхания, когда дверь снова распахнулась. Тряпка всё ещё висела у человека на руке.
— Да — я забыл — войдите — у меня печка — потом чай. Я тут пол — тряпкой. — Отрывистую, точно, сердился на вопиющую неточность слов, речь свою он сопровождал нетерпеливыми жестами. Пропустив гостя вперёд, он старательно запер дверь на цепь. — Не пенсне — не пустил бы!
— Пенсне не паспорт, — засмеялся Жеглов, всё ещё не доверяя тишине за дверью.
— Пенсне — надо смелость — за пенсне могут расстрелять — беглые хлюсты с каторги.
— Знаете что?.. — осторожно приподнялся Жеглов. — Я уж, пожалуй, пойду туда, на площадку. Я как раз с каторги.
Хозяин раздумчиво взглянул на гостя.
— Ничего — сидите — там зима. Моя — Ренне, ваша — Жеглов? Я не был на каторге — брат был — горный инженер — помер.
— И давно? — неопределённо поддержал Жеглов.
— Да — помер, — не понял хозяин и поглядел на стену, где рядом с мешочком крупы, помещённым туда от мышей, висела фотография инженера с мешковатой выправкой; будучи молод и глуп, зная каторгу лишь из окна казённой квартиры, инженер, презирал и крупу, и предстоящего Жеглова. — Помер — смерть растворяет — как сахар, но мысль нельзя — кристалл. Бессмертие — я потом докажу. Если да — в этом стакане будет безумие! — Он нарисовал широким жестом этот стакан, годный для определения и вселенной; потом перешёл к окну. — Там лошадь мрёт — хвост притоптали — он примёрз. Хотите глядеть? У меня бинокль…
— Я уж лучше чайку предпочту, — открыто намекнул Жеглов, жадно впитывая в себя тепло из печки.
— Ладно — у вас яблоко — будем с яблоком — давайте половину — снесу жене.
Разорвав яблоко пополам, он вышел в дверь и плотно притворил её за собою. Жеглов осмотрелся. От сырых ещё полов пахло какой-то знакомой дрянью. На прогорелое колено трубы, как пластырь на горло, привязали проволокой кусок жести. На столе валялись листы толстой бумаги с рисунками, выполненными от руки и до кропотливости тонко; изображал он не то листву как бы архейского папоротника, не то беспредметное видение сна. Хозяин застал гостя за разглядыванием рисунков.
— Это жена, — пояснил, он, внося чайник и ставя его на печку. — Это мороз с окна — трудно — у неё глаза болят. Маньяк — ему нужно гармоничность распределения молекул — кристаллограф — скоро расстреляют. Нет, тот от гипосульфита — на стекле. Он в мукé служит — носит в карманах — ворует.
— От рисования заболели глаза?
— Да — тряпочки с холодной водой — и лежать. Теперь сам — полы стираю — бельё — человек должен всё. Бегать не умею — украл доску из забора, упал — пять, пудов без тары!
Жеглов так и понял: перед ним стоял помрачённый интеллигент, для которого с начала революции потух свет в мире. Путём наводящих уловок он дознался, что был прежде Ренне крупным знатоком лесного дела, и Октябрьская застала его в глухом городишке, где он проживал с женой и дочерью в домике у старшей, одинокой своей сестры. Жена разводила коз и кормила весь дом, но, несмотря на козье молоко, сестра вскоре умерла; привыкшую к плавному течению прошлого века, её слишком утомлял шумный круговорот новых дней. Провинциальные условия не способствовали тихому житию; местную власть, на-глазок определявшую степень вредности граждан, могли когда-нибудь ущемить белые воротнички инженера. Тогда Ренне бросили сестрино пепелище и перебрались в Москву, на Сретенку. Здесь можно было укрыться с головой одеялом и ждать чего-то, выбираясь лишь для добывания еды. Под одеялом одолевала смертная тоска и червился разум, но, даже и чистя снег на мостовых в порядке общей повинности, он всё ещё скрывал своё инженерское звание, полагая, что за это-то и кокнут. Постепенно он входил в общую линию и, когда однажды ему удалось проволокой пришить к износившимся ботинкам огрызки автомобильной шины, он целый день смеялся от радости, как не смеялся, наверно, и первобытный человек, додумавшись до каменного топора; к таким ботинкам следовало лишь притерпеться первую неделю, а там шагай в них хоть пешком в Америку. Предельно опростясь, он тихо копил жиры, изредка проветривая их созерцательным бездельем. Ему даже нравилось это добровольное самоуничижение, а средства к жизни… кажется, их добывала жена, которая фанатически верила, что муж её рождён для великих свершений. Сперва она шила чувяки, а когда ковёр покончился, в пещеру их вторгнулся добродушный маньяк, за морозные узоры плативший ворованной мукою. Торопясь накопить побольше муки, прежде чем маньяка расстреляют, жена целые дни проводила в своём слепящем труде, а муж валялся на диване, зарастал седоватым волосом и твердил дикую штуку, налипшую ему на разум, как окурок к каблуку — «ерой-ерой, а у ероя еморрой!»
— Слушай, Филипп, — подошла однажды она. — Я ничего не вижу. Круги летят… Я разбила сейчас последнюю нашу кашу, посмотри!
— А у ероя… Дай водички, дружок, — басовито попросил муж.
— Я не вижу… — сквозь зубы повторила жена и, боязливо вытягивая руку, пошла прочь.
Инженер поднялся и, как в похмельи, вгляделся в мир, который содрогался от потрясений. Во всём происходил необыкновенный кавардак, как всегда бывает при переезде на новую квартиру. Подобно опрокинутому грузовику, тарахтела российская машина, а людишки бегали вокруг, сбираясь снова поставить её на колёса. Тогда весь в поту и с сопеньем Ренне сам стал зарисовывать замысловатую игру ночного мороза, изредка вскакивая переменить холодные тряпочки на глазах жены; всё ещё резвился маньяк в мутных водах эпохи. Так дело длилось до Жеглова, который не задумался приобрести эту примечательную машину, слегка подпорченную невзгодами голодных лет. Был вечер, когда снова в крахмальном воротничке, неотделимом от его человеческого достоинства, Ренне вышел из своей пещеры… По бульвару стлался острый осенний холодок. На скамье сидела парочка с нездешними глазами. Туда, вниз к площади, цыган-поводырь вёл на цепи медведя, а сзади шёл горбун с бубном, шёл важно, и угловатую свою голову нёс на плоских плечах, как плод на широком блюде. Они шли в жизнь, и никто не останавливал их. На углу Ренне едва ускользнул от трамвая: его ошеломляло бытие. Он зашёл в парикмахерскую и приказал постричь себя помоложе; в зеркале он увидел одного знакомого чудака и раскланялся с них словно расстались только вчера. Ему очень хотелось верить, что ничего не произошло за эти годы, этому Ренне!.. К слову, фамилия его обманывала; был он по наружности явный русак, и если ночевал где-то немец в роду, то нестойкий. В одной лишь Сузанне сквозила странная нерусскость.