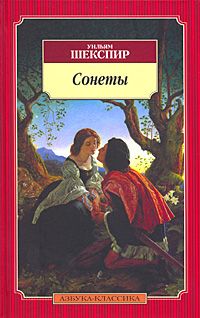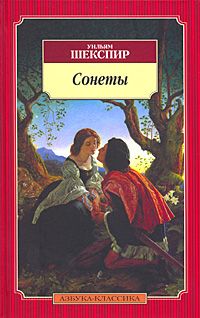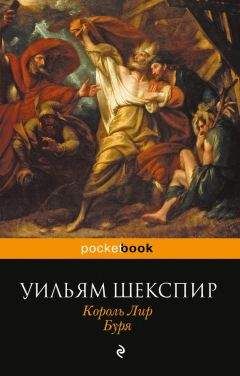Тамара Казавчинская - Беспокойное бессмертие: 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира
Так, в «Короле Лире» есть слова, которые люди вспоминают сотни раз, и неизвестно почему, нечаянно или намеренно, всегда не к месту. Если вы не прочтете, то услышите: «…больней, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка!»[29] Не думайте, что это говорит сенильный старикашка или подвыпивший актер в юмористическом романе. В толк не возьму, как эти слова стали цитатой, и почему — они, а не другие? Шекспир нередко сочинял наскоро, и чаще всего — метафоры: молниеносно их придумывал и молниеносно их соединял. В данной, конкретной, метафоре нет ничего особенного: укус мог бы быть волчий или тигриный, и, чтобы превратиться в афоризм, этим словам нужна вся остальная сцена, где есть другие строки, куда более сильные, которые никто не вспоминает. Смысл их таков. Сраженный первым оскорблением, которое ему наносит Гонерилья, Лир проклинает ее женскую природу: сначала ей желает не иметь детей, потом — рожать лишь извергов или уродов и, наконец, произвести на свет само исчадье ада, чтобы она могла понять, насколько… и так далее. Если не знать этих зловещих пожеланий, змея становится беззубой — не кусает. Не могу понять, почему люди так часто повторяют самые слабые стихи монолога и никогда не повторяют те, что бьют наотмашь.
Невольно проникаешься ужасным подозрением, что мало кто читал Шекспира: в трагедии о Лире слишком много мест, которые никто не вспоминает, хоть вспомнить очень даже стоило бы. Тому, кто их хоть раз прочел, они бы наверняка запомнились. Под завыванья ветра и раскаты грома померкнувший рассудок Лира, подобно новому удару грома, пронзает мысль о том, что он напрасно сетует на бурю, вихрь и ливень — они ему не дочери: «Я царств вам не дарил, не звал детьми»[30]. На мой взгляд, лучший английский вымысел, имя которому нонсенс, нигде не поднимался до таких высот ужасного и алогичного, как в тираде Шута, когда, вволю поиграв понятиями: «время и пространство», «завтра и вчера», он наконец вполне серьезно заключает: «Это пророчество сделает Мерлин, который будет жить после меня»[31]. Поистине удар в поддых — от неожиданности замирает сердце.
В той же сцене бури и бесприютных степных скитаний есть и другой пример расхожего цитирования. Он, правда, не сражает наповал: уж очень хороши слова и сами по себе, и слишком часто говорятся по поводу поистине печальной человеческой юдоли. Однако они не просто более возвышенны, они и значат несравненно больше в устах Лира. Всем нам не раз случалось слышать, как в знак сочувствия к какому-нибудь злополучному воришке или транжире, чьи прегрешения не так уж велики, цитируют Шекспира: «…Я не так перед другими грешен, как другие — передо мной»[32]. Но здесь нет даже сотой доли силы или смысла, которые подразумевает Лир! Вся суть тут в вызове, который он бросает небесам, чью справедливость подвергает окончательному пересмотру; все дело в том ошеломляющем бесстрастии — дарованном ему отчаянием и помутнением рассудка, — с которым он глядит на самого себя. Разбушевавшуюся бурю он понимает как конец времен: подрыв основ миропорядка; опустошая, вырывая с корнем все сущее, она выпалывает из души лжеца и негодяя все самые злостные и отвратительные сорняки, какие тот взрастил в себе. В мгновение ошеломляющего самопознания, пронзительного и ясного, как вспышка молнии, Лир объявляет нам: его страдания больше, чем грехи. На мой взгляд, это самое душераздирающее признание, какое может сделать человек, — неважно, вправе ли он сам судить себя. Подобного не встретишь даже в Книге Иова. Однако редкостную дерзость этих слов сводят на нет, используя, пусть даже из лучших побуждений, чтобы утешить и поддержать людей в их слабости.
Сознанию Шекспира были присущи некие общие идеи, без знания которых нельзя по-настоящему понять его трагедии, где нынешние зрители выискивают одни лишь достоверные подробности о нашем брате человеке. Так, через всю трагедию о Лире, как и через всю пьесу о Ричарде II, проходит мысль, исполненная невероятной жизненности для современников Шекспира — мысль о природе королевской власти. Ей дали очень неудачное название: божественное право королей; попав в один котел с религиозными и парламентскими дрязгами, оно варилось там, пока, в конце концов расшатанное и подорванное, почти лишилось своего величия. Но поначалу суть его была гуманнее названия. Сводилось это примерно вот к чему. Идею государственного управления, точнее, идею справедливого правления человек может принять в одном из трех видов: народного совета, свитка законов или человека. Король Лир и есть подобный человек, он есть, вернее, был помазанником Божьим, и, значит, он священен, вот почему его и можно осквернить. Однако даже тот, кто хочет, чтобы его жизнь была подчинена своду законов или совету племени, должен понять, что люди желали и могут снова пожелать, чтобы ими правил человек. И там, где появляется желание такого рода, подобный человек становится… не богоравным, разумеется, но все же существом иной природы. И это вовсе не случайность, что Лир в пьесе не только король, но и отец, и что Регана с Гонерильей — не только его дочери, но и изменницы. Измена или же то, что Лир считает таковой, и разбивает сердце мира — он мало когда был так близок к своему концу, как в этой трагедии.
Предисловие к сборнику «Вкус к жизни», 1950 г. «Илластрейтед Лондон ньюс», 18 октября 1919 года
Убийца в роли маньяка
© Перевод А. Ливергант
Не могу взять в толк, отчего в наше время люди любят, когда их называют рабами. И не просто рабами, а рабами самыми жалкими и ничтожными. Рабами нравственными и духовными. Популярные проповедники и модные романисты утверждают, что люди целиком зависят от того, что им предначертано судьбой.
Настоятель Индж с приводящим в уныние ликованием заявляет, что, согласно каким-то абсурдным американским статистическим данным или экспериментам, наследственность — болезнь неизлечимая и образованием делу не поможешь. По словам мистера Арнолда Беннета, многие его друзья крепко пьют, и тут уж, дескать, ничего не поделаешь — не пить они не могут. Против алкоголя я ничего против не имею; чего я только не пил, и в молодости не раз выпивал лишнего. Но в любом состоянии, пьяном или трезвом, я пришел бы в ярость, если б мне сказали, что не пить я не могу. С каким удовольствием я проломил бы череп этому взявшемуся меня утешать фаталисту. Тем не менее никто вроде бы не собирается проломить череп взявшимся нас утешать фаталистам. Этого, казалось бы, требует элементарное чувство собственного достоинства, а между тем даже самые из нас обидчивые относятся к подобным суждениям совершенно спокойно. И это притом, что в наше время обидчивых людей хватает, они рассвирепеют, если им сказать, что они не джентльмены, хотя, с исторической точки зрения, они с тем же успехом могли бы претендовать на то, чтобы именоваться маркизами или рыцарями. Они до глубины души возмутятся, если им сказать, что они — не христиане, хотя считают себя в полном праве отрицать или подвергать сомнению саму идею христианства и даже историческое существование Христа. С них станется обвинить нас в том, что на их журналистском жаргоне принято называть «клеветническими измышлениями», скажи мы им, что они не демократы, хотя многие из них предпочитают аристократию или автократию, да и истинных демократов в английском обществе можно пересчитать по пальцам. Не будет даже преувеличением сказать, что истинные приверженцы демократии сами принадлежат к аристократии. Скажите им, что они язычники, или плебеи, или простаки, или реакционеры, или олигархи, — и они обидятся на вас на всю оставшуюся жизнь. А рабами их можно называть сколько угодно. И рабами, и обезьянами, и, уж само собой, машинами. Казалось бы, что может быть оскорбительнее, чем заявить, что человеческая жизнь не подвластна человеческой воле. Можете сколько угодно называть их недочеловеками — лишь бы не язычниками. Можете говорить, что они растут, как трава под забором, или поворачиваются с автоматизмом колеса — вам все сойдет с рук.
Подобная унизительная ересь может выражаться по-разному. Например, всякое преступление можно считать умопомешательством. Что до меня, то я, если уж согрешил, предпочел бы считаться преступником, а не совершившим преступление безумцем. Из тщеславия, не из добродетели, скажу: пусть уж лучше меня называют убийцей, чем маньяком, — это менее оскорбительно. Про убийцу, и не без оснований, можно сказать, что он утратил благоухание невинности, все, что роднит младенца с херувимом. Маньяк же утратил нечто большее, чем невинность: он лишился своей сути, того, что делает человека человеком. Вместе с тем все рассуждают так, будто вполне естественно и даже прилично оправдывать безнравственный поступок идиотизмом. Этот принцип при всем прекраснодушии, на какое только способны широта взглядов и милосердие, применим к оригиналам, которые больше всего на свете гордятся своей оригинальностью. И применим этот принцип не только к мелким и ничтожным негодяям из жизни, но и к не в пример более солидным и убедительным негодяям из мира изящной словесности.