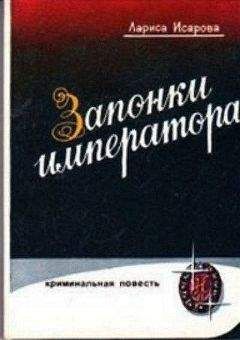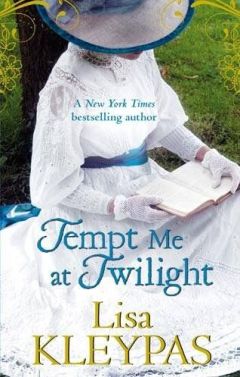Екатерина Бронникова - Завтрак
С тех пор я делала все, чтобы после меня ничего не осталось. А значит, и после капустной рожи. Может быть, мои пожертвованные деньги и спасли несколько деревьев, но они все равно сгорят. Потому, что все сгорит. Как кроличья лапка, которая, кстати, ужасно воняла, когда горела. А когда горела порванная фотография, на меня уставился мамашин глаз, потом он исказился, словно нахально подмигнул, надулся пузырем и лопнул. Мамаша, кстати, тоже потом сгорела, вместе с этим домом, под номером бесконечность. От меня это тщательно скрывали и вообще стали оберегать меня от любых намеков на нашу с ней встречу.
А эти вещи, эти колечки, что дарил мне министр, – это все не взаправду, не по-настоящему, потому что это вещи. Они сгорят и истлеют, и никто не вспомнит, чьи они были и откуда взялись. А раз не вспомнят меня, то не вспомнят и ее.
Я помню, как долго и мучительно умирала моя мама. Как хватала меня своими иссохшими руками, и что-то страшное, невысказанное, булькало у нее в груди. Как она хрипела, как плакала, как рвало ее непрестанно. Как кричала она от боли, как капризничала, отказывалась от еды, ходила под себя. И как это было страшно, словно тонет огромный корабль. И как сбежали от этого ужаса и отец, и Олеська, словно она не значила для них ничего. Но как тиха и светла, и прекрасна была мама в самом конце. Она перестала хрипеть, и болезнь словно вылетела из нее в один миг, высосав из нее все. Она смотрела на меня как будто издалека, из прошлого, словно это была та мама, которую я помню из детства. И рассказывала, рассказывала обо мне, о том, как я росла. Она вспомнила каждый мой день, каждую минуту. Рассказала мне, что первый раз увидела меня в инфекционной больнице, когда брала интервью у тамошних врачей. Посмотрела через стекло в палате на детскую кроватку с железными прутьями. А в ней маленькое тельце, корчащееся, поджимающее ножки, и машущее кулачками. А рядом пустая, без матраца кровать для взрослого. И как она заплакала, когда поняла, что этот маленький комок никому не нужен, что он сучит руками и ногами, а это безразлично всему миру, и это никого не радует и не умиляет. А медсестры засмеялись над ней и съязвили: «Ну, так забирай, раз такая жалостливая!» Рассказала, как первый раз взяла меня на руки, неумело, неуклюже. И что понятия не имела, что делать дальше. О том, как они меняли квартиру, чтобы уехать от судачивших соседей, – боялись, что они расскажут мне правду. Про то, как она красила всю жизнь волосы в черный цвет, чтобы мы были с ней похожи. И у нее была дикая аллергия на краску. Но она все равно красила, пила таблетки, и красила. Про то, как первый раз повезли меня на море, как папа учил меня плавать, а я кричала так, что сбегался весь пляж. Как первый раз я влюбилась в мальчика, а он заболел ветрянкой, и нам запретили общаться. Она помнила все стихи, что я учила когда-то. Каждую сказку, что она мне рассказала, помнила. Про каждую царапину мою, каждый мой прыщик. Каждый мой вдох и выдох. Каждый миг. Она все помнила, все хранила в сердце, таком маленьком и таком большом.
Только один раз за всю жизнь мама приснилась мне. Как будто на даче, под крыльцом родила бездомная собака и бросила своих щенков, убежала. А мама собрала их и положила в коробку, и кормит их молочком из шприца. А они пищат, пищат. Но только не они это пищали, а будильник. Я проснулась и думаю, а для чего это она мне приснилась? Первый раз за столько лет! Почему теперь, почему не в те разы, когда я плакала и просила ее прийти ко мне? И к чему эти щенки? И зачем она их кормит?
Я позвонила в министерство, сказала, что заболела. Через час министр привез деньги. Как обычно, на аборт. А я первый раз разозлилась, обозвала его козлом, и бросилась на него с кулаками. Наверное, никто никогда не бросался на него с кулаками, даже в детстве мальчишки. Я уверена, они боялись его, как боялись потом все остальные. Он уехал помятый, встревоженный, а я все ходила и ходила по квартире, которую он мне подарил, и даже не завтракала. Завтрак. Какое странное слово. Он ведь сейчас, сегодня, а завтрак. Как будто завтра всегда рождается из прошлого, и тянет туда, дальше. Завтрак. Завтра к…Теперь я понимаю, что тогда, не позавтракав, я и приняла неверное решение. Единственное неверное решение за всю жизнь – родить. Противно вспоминать. На что я надеялась, в 38 лет после стольких абортов? Конечно, промучив меня все девять месяцев, родился идиот. Он ревел круглые сутки, двух часов кряду я не могла поспать. Никогда никого я не ненавидела так сильно, как этого ребенка. Помнишь, пришла медсестра на дом, совсем молоденькая, глупенькая? Говорит, что ему массаж надо делать. Я не выдержала, как заору: «Какой массаж, дура! Ты не видишь, что он идиот?», а она заплакала от обиды, и убежала. А вечером явился министр, за очередной порцией любви и ласки. Я сказала ему: «Выбирай, либо он, либо я», и схлопотала по лицу. Упала на пол, к шкафу, вот сюда, и думаю, надо зареветь, надо закричать, надо отомстить, а сама уснула. Такое истощение было. Он отвез ребенка в интернат для инвалидов, ездил к нему раза два в месяц, навещал. Меня навещал чаще. А через четыре года, застегивая ширинку, сказал мне, что ребенок умер. Я отвернулась к стене и лежала так, не двигаясь всю ночь. А утром встала и, как ни в чем не бывало, стала завтракать.
Через полгода мы расписались с министром, и в этот день, точнее вечер, я встретила Сережу. Вспоминаю, и сердце замирает. Он понравился мне сразу. Министр привел меня в ресторан, и так был напыщен и горд, что мне даже стало неловко. Весь его вид говорил: «Посмотрите, какая у меня женщина. И она моя, моя, моя!». Ни дня, ни часа не принадлежала я ему, и мне плевать, что он там думал. Сережа сидел за соседним столиком, и рассеянно смотрел вокруг. Я хотела бы спеть о нем песню, но я не знаю таких мелодий, которыми можно было передать его очарование. Я хотела бы написать о нем стихи, но не дойдут они до бумаги, омертвеют. В голове моей прекрасные картины, но не найти таких красок, чтобы передать его красоту. Он покорил меня. Когда наши глаза встретились, я поняла, что скоро умру и что сама ищу и хочу этой смерти. Он был прекрасен, как демон. Высокий, бледный, угловатый, жесткий. Мне было сорок два. Ему двадцать четыре. Я до сих пор пребываю в приятном удивлении оттого, что он существовал в моей жизни. Ведь я могла никогда его не встретить, и так бы и жила дальше, не зная, что такое любить просто так. Оказалось, что министр его знал, Сережу недавно приняли к нам в министерство, они поздоровались, и министр представил меня: «Моя супруга». Я вспыхнула как спичка, а Сережа так просто и прямо посмотрел на меня, и мне сразу стало почему-то спокойно. Покорил меня этим взглядом. Подчинил. И он стал приходить в мой кабинет, и садиться на подоконник. Я вставала рядом на колени и делала ему приятно, как умела, как могла. Единственное, что ему было нужно от меня. Он был так ласков, что всегда говорил потом: «Спасибо, Ларсон, ты мой прекрасный сон». И ничего, кроме этого, не было между нами, никаких поцелуев, разговоров по душам, ухаживаний, ерунды всякой. Только суть. А мне так хотелось его обнять, погладить, пожалеть. Мне было его жалко не оттого, что он был жалок или было, за что его жалеть. Нет, с ним было все в порядке. Я где-то читала, что раньше фраза «я его жалею» означала «я его люблю». «Жалеть» и «любить» были почти синонимами. Это какая-то жалость-нежность, жалость-грусть. Сродни материнской жалости, наверное, которой я никогда не знала. И как только он выходил за дверь, я сразу начинала скучать и ждать следующего дня. Когда я шла на работу, мне казалось, что я смотрю какой-то фильм, что это не я иду, а движется камера. И смысла у фильма нет! Какие-то люди, люди, люди, машины, дороги, светофоры. Снег, небо, ветер. Все это как будто не со мной. Рот мой говорит, глаза видят, уши слышат, но как будто это не я, как будто какая-то другая женщина.
Он стал моей жизнью, и эти пять минут на коленях в кабинете. Я жила ими. Я любила. Любила, как могла. Но я была счастлива по пять минут в день. И ничего больше мне не надо было. А потом он пригласил меня на свою свадьбу. Меня совсем не задела эта новость, я только спросила, будет ли он приходить и дальше. Он так громко засмеялся и ушел, ничего не сказав. Но все равно приходил ко мне, правда, реже, пару раз в месяц. А потом он разбился на машине. Вместе с молодой женой. Я не была на их свадьбе, но на похороны пришла. Народу было очень много. Все такие молодые, красивые. И в губы я его поцеловала первый раз только в гробу. И я почувствовала, как огромный ком страха откуда-то сзади катится на меня, ведь сейчас его закопают, и я останусь совсем одна. Так и вышло. Да, я одна теперь. И я одинока. Но это не то одиночество, которое приносить боль. Мое одиночество приносит мне покой, оно защищает меня. Я не пускаю теперь к себе министра, не могу. Хватит. Три года прошло, как Сережа умер. Три года я живу взаперти, три года я разговариваю сама с собой, три года, я день за днем вспоминаю всю мою жизнь. Три года я получаю письма от моей сестры, в которых она просит приехать к ней, потому что сама она не может даже ходить. Я знаю, что еще жив мой отец, и именно он старый и дряхлый возит ее в коляске, словно она маленькое дитя. Три года прошло, но чувство такое, что тридцать лет. Я попала в ад еще при жизни.