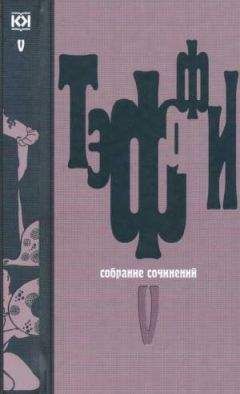Надежда Тэффи - Алмазная пыль (сборник)
Доктор, внимательно посмотрев на Елену, спросил:
– Вы, очевидно, ее мать?
– Да.
Еще внимательнее на Бальмонта.
– А вы отец?
– М-м-м-да.
Доктор развел руками.
– Ну так чего же вы от нее хотите?
Еще жила вместе с ними Нюшенька, нежная, милая женщина с огромными восхищенно-удивленными серыми глазами. В дни молодости влюбилась она в Бальмонта и так до самой смерти и оставалась при нем, удивленная и восхищенная. Когда-то очень богатая, она была совсем нищей во время эмиграции и, чахоточная, больная, все что-то вышивала и раскрашивала, чтобы на вырученные деньги делать Бальмонтам подарки. Она умерла раньше них.
Как нимб, любовь, твое сиянье
Над каждым, кто погиб, любя.
Ни к какому поэту не подходило так стихотворение «Альбатрос», как к Бальмонту.
Величественная птица, роскошно раскинув могучие крылья, парит в воздухе. Весь корабль благоговейно любуется ее божественной красотой. И вот ее поймали, подрезали крылья и смешная, громоздкая, неуклюжая, шагает она по палубе, под хохот и улюлюканье матросов.
Бальмонт был поэт. Всегда поэт. И поэтому о самых простых житейских мелочах говорил с поэтическим пафосом и поэтическими образами. Издателя, не заплатившего гонорара, он называл «убийцей лебедей». Деньги называл «звенящие возможности».
– Я слишком Бальмонт, чтобы мне отказывать в вине, – говорил он своей Елене.
Как-то, рассказывая, как кто-то рано к ним пришел, он сказал:
– Елена была еще в своем ночном лике.
Звенящих возможностей было мало, поэтому ночной лик выразился в старенькой застиранной бумазейной кофтенке. И получилось смешно. Так шагал по палубе великолепный Альбатрос.
Но полюбившие его женщины подрезанных крыльев уже не видели. Им эти крылья казались всегда широко раскинутыми, и солнце благословенно сияет над ними. Как мог бы говорить он, чародей-поэт, простым пошлым языком?
И близкие тоже говорили с ним и о нем превыспренно. Елена никогда не называла его мужем. Она говорила «поэт».
Простая фраза – «Муж хочет пить» на их языке произносилась, как «Поэт желает утолиться влагой».
Мироносицы старались по мере сил и возможности выражаться так же. Можно себе представить, какой получался бедлам. Но все это было искренне и вызывалось самой глубокой и восторженной любовью. Так любящие матери говорят с ребенком на «его» языке. «Бо-бо» – вместо больно, «баиньки» – вместо спать, «бяка» – вместо плохой. Чего только не проделывает любовь с бедным человеческим сердцем.
* * *Ко мне он относился очень неровно. То почему-то дулся, словно ждал от меня какой-то обиды. То был чрезвычайно приветлив и ласков.
– Вы ездили в Виши?
– Да, ездила. Только что вернулась.
– Гоняетесь за уходящей молодостью? (Это, очевидно, «хочу быть дерзким!»).
– Ах, что вы. Как раз наоборот. Все время ищу благословенную старость.
И вдруг лицо Бальмонта делается беззащитно-детским, и он смеется.
То вдруг восхитился моим стихотворением «Черный корабль» и дал мне за него индульгенцию – отпущение грехов.
– За это стихотворение вы имеете право убить двух человек.
– Неужели двух? – обрадовалась я. – Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь.
* * *Бальмонт хорошо рассказывал, как ему поручил Московский Художественный Театр вести переговоры с Метерлинком о постановке его «Синей Птицы».
– Он долго не пускал меня, и слуга бегал от меня к нему и пропадал где-то в глубине дома. Наконец, слуга впустил меня в какую-то десятую комнату, совершенно пустую. На стуле сидела толстая собака. Рядом стоял Метерлинк. Я изложил предложение Художественного Театра. Метерлинк молчал. Я повторил. Он продолжал молчать. Тогда собака залаяла, и я ушел.
* * *Последние годы своей жизни он сильно хворал. Материальное положение было очень тяжелое. Делали сборы, устроили вечер, чтобы оплатить больничную койку для бедного поэта. На вечере в последнем ряду, забившись в угол, сидела Елена и плакала.
Я декламировала его стихи и рассказала с эстрады, как когда-то магия этих стихов спасла меня.
Это было в разгар революции. Я ехала ночью в вагоне, битком набитом полуживыми людьми. Они сидели друг на друге, стояли, качаясь как трупы, и лежали вповалку на полу. Они кричали и громко плакали во сне. Меня давил, наваливаясь мне на плечо, страшный старик, с открытым ртом и подкаченными белками глаз. Было душно и смрадно, и сердце мое колотилось и останавливалось. Я чувствовала, что задохнусь, что до утра не дотяну, и закрыла глаза.
И вдруг запелось в душе стихотворение, милое, наивное, детское.
В замке был веселый бал,
Музыканты пели…
Бальмонт!
И вот нет смрадного хрипящего вагона. Звучит музыка, бабочки кружатся и мелькает в пруду волшебная рыбка.
И от рыбки, от нее
Музыка звучала…
Прочту и начинаю сначала. Как заклинание.
– Милый Бальмонт!
Под утро наш поезд остановился. Страшного старика вынесли синего, неподвижного. Он, кажется, уже умер. А меня спасла магия стиха.
Я рассказывала об этом чуде и смотрела в тот уголок, где тихо плакала Елена.
Синие вторники
Был такой поэт Василий Каменский. Не знаю, жив ли он и существует ли как поэт, но уже в эмиграции я читала о нем – был в Петербурге диспут «Гениален ли Василий Каменский?» После этого я его имени больше не встречала и ничего о нем не знаю. Он был талантливый и своеобразный.
Он ручей называл «журчеек», сливал журчание с названием. Передавал звуком острый зигзаг молнии.
Это он назвал мои вторники синими. Так и писал о них уже в большевистские времена – «синие вторники».
На «синих вторниках» бывали писатели, актеры, художники и те, которым было интересно посмотреть на всю эту компанию.
Помню, приехал из Оренбурга старенький казачий генерал. Был моим читателем и захотел познакомиться. И вот как раз попал на синий вторник.
Генерал был человек обстоятельный, прихватил с собой записную книжку.
– А кто это около двери? – спрашивал он.
– А это Гумилев. Поэт.
– А с кем же это он говорит? Тоже поэт?
– Нет, это художник Саша Яковлев.
– А кто это рояль настраивает?
– А это композитор Сенилов. Только не настраивает, а он играет свое сочинение.
– Значит, так сочинил? Так, значит, сам сочинил и, значит, сам и играет.
Генерал записывал в книжку.
– А кто эта худенькая на диване?
– А это Анна Ахматова, поэтесса.
– А который из них сам Ахматов?
– А сам Ахматов это и есть Гумилев.
– Вот как оно складывается. А которая же его супруга, то есть сама Гумилева?
– А вот Ахматова и есть Гумилева.
Генерал покрутил головой и записал в книжечку. Воображаю, что он так потом в Оренбурге рассказывал.
Украшением синих вторников была Саломея Андреева, не писательница, не поэтесса, не актриса, не балерина и не певица – сплошное «не». Но она была признана самой интересной женщиной нашего круга. Была нашей мадам Рекамье, у которой, как известно, был только один талант – она умела слушать. У Саломеи было два таланта – она умела, вернее любила, и говорить. Как-то раз высказала она желание наговорить пластинку, которую могли бы на ее похоронах прослушать ее друзья. Это была благодарственная речь за их присутствие на похоронах и посмертное ободрение опечаленных друзей.
– Боже мой, – завопил один из этих друзей. – Она хочет еще и после смерти разговаривать!
Многие художники писали ее портреты. У Саломеи была высокая и очень тонкая фигура. Такая же тоненькая была и Анна Ахматова. Они обе могли, скрестив руки на спине, охватить ими талию так, чтобы концы пальцев обеих рук сходились под грудью.
Высокая и тонкая была также Нимфа, жена Сергея Городецкого.
Мне нравилось усаживать их всех вместе на диван и давать каждой по розе на длинном стебле. На синем фоне дивана и синей стены это было очень красиво.
Я очень любила Гумилева. Он, конечно, был тоже косноязычным, но не в чрезмерно сильной степени, а скорее из вежливости, чтобы не очень отличаться от прочих поэтов.
Ахматова всегда кашляла, всегда нервничала и всегда чем-то мучилась.
Жили Гумилевы в Царском Селе в нестерпимо холодной квартире.
– Все кости ноют, – говорила Ахматова.
У них было всегда темно и неуютно, и почему-то всегда беспокойно. Гумилев все куда-то уезжал, или собирался уезжать, или только что откуда-то вернулся. И чувствовалось, что в этом своем быту они живут как-то «пока».
Они любили развлекать друзей забавной игрой. Открывали один из томов Брэма «Жизнь животных» и загадывали на присутствующих, кому что выйдет. Какому-нибудь эстету выходило: «Это животное отличается нечистоплотностью». «Животное» смущалось, и было очень забавно (не ему, конечно).
Н. Гумилев на синих вторниках бывал редко. Встречаться с ним я любила для тихих бесед. Сидеть вдвоем, читать стихи.
Гумилев никогда не позировал. Не носил байроновских воротников с открытой шеей и блузы без пояса, что любил иногда даже Александр Блок, который мог бы обойтись без этого кокетства. Гумилев держал себя просто. Он не был красив, немножко косил, и это придавало его взгляду какую-то особую «сторожкость» дикой птицы. Он точно боялся, что сейчас кто-то его спугнет. С ним можно было хорошо и просто разговаривать. Никогда не держал себя мэтром.