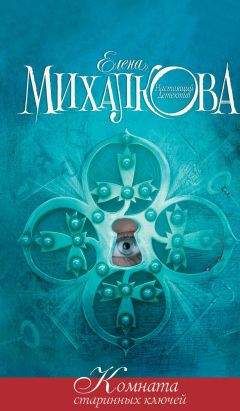Эдвард Радзинский - Театр про любовь (сборник)
Он. Пока что?
Она (не отвечая). Поэтому она вынула из сумки остатки «цвета лица» и спустила их в унитаз… в связи с их полной бесполезностью… Жаль! Была такая замечательная французская тушь! (Вдруг) Пока я не освобожусь… от тебя! Мне иначе нельзя начать нормально жить. Ты умный, ты все знаешь. Что мне нужно, чтобы освободиться от тебя?
Он (открыто издеваясь). А ты попробуй трусцу.
Она. Молодец! Я знала, что ты так ответишь. Трусцу мне нельзя! Я могу бегать только за деньги! Ха-ха-ха.
Могу бежать, например, на радио… на телевидение… И вообще я (шепотом) боюсь вас, бегуны трусцой. Однажды… под утро… мы еще вернемся с тобой к этому утру… Это был рассветный зимний час, я плелась домой… с очередным детским задом на физиономии. Я брела в этой мгле… и вдруг из сумрака, прямо на меня понеслась красная фигура. Представляешь: пустота, снег, фонари – и на тебя несется кровавый человек! Боже, как я закричала! И он в ужасе заорал тоже! Ха-ха-ха! Ну, конечно, это оказался он, бегун трусцой в красном тренировочном костюме! Ха-ха-ха! С тех пор я боюсь вас, бегуны-спортсменщики!
Он. Скажи, это все – до бесконечности?
Она. Прав! Уже нужно торопиться. Итак! (Читает) «Ресторан, где они случайно встретились – после того как он ее бросил». Вранье! Это не была случайная встреча. Она ходила, ходила, ходила… в этот чертов ресторан, потому что знала: туда любил ходить он. И он это знал. И всякий раз, когда замечал ее… трусливо уходил, делая вид, что не заметил. Ха-ха-ха. А она все ходила, умирая от любви… и уже от ненависти! В тот день ей вдруг повезло, он пришел в ресторан не один. Он привел с собой обедать известного кинорежиссера… и бабника. Впрочем, можно сказать наоборот – известного бабника и кинорежиссера! Кинорежиссер был урод… и через несчастных баб самоутверждался в этой жизни! Ну, а дальше все играем, как у тебя в пьесе. Кинорежиссер действительно сразу «положил на нее глаз», потом кинорежиссер подошел к ней и пригласил ее танцевать. (Все это смешно изображает.) Знаешь, я страшно реагирую на уродов. Однажды я разговаривала с одним уродом – и упала в обморок… Причем человек может быть абсолютно нормальный, но мне он кажется – уродом. Это у меня просыпается «третий глаз». Такой чертов глаз. Например, человек очень серьезный, а я вдруг вижу его, как в «комнате смеха». Рот до ушей, щеки висят, как галифе! И начинаю хохотать. Ха-ха-ха! Никто никогда не понимает, только моя подруга Мариша всегда спрашивает: «Он проснулся?» Ха-ха-ха! С тех пор как я стала феминисткой – «он» часто просыпается. Особенно под утро… Когда я вижу вдруг «третьим глазом»… того, кто рядом.
Он. Я просто в восторге от всей этой информации. Я торчу здесь ночью, чтобы все это выслушивать?
Она. Нет-нет, я знаю, ты пришел за кроссовками… и тренировочными брюками. Просто тебе пришлось вступить в мою «Лилу». Ха-ха-ха… Но я хочу, чтобы в этой игре была полная ясность. Потому что это – божественная игра. Так что знай: когда твой друг режиссер, победно подпрыгивая по привычке всех маленьких мужчин, подошел к ее столику… ее «третий глаз» тотчас пошалил. И она вдруг увидела его космическим уродом: чувственные губы… раздуты, каку покойника, зубы вперед «фэ-фэ-фэ», а на его лысом черепе торчит какая-то мерзкая кепочка. И ей даже показалось, что он стаскивает перед ней эту кепочку, слюнявит палец своими страшными плотоядными губами и, прикладывая к своей лысине, говорит: «Гаже вы что-нибудь видели?» Ха-ха-ха! Теперь ты представляешь, сколько сил ей стоило пойти с ним танцевать? Но я пошла! Вот так, Саша…
Он. И это тоже ради меня?
Она. Мы же договорились – все ради тебя! Ха-ха-ха! (Танцует одна.) А ты в это время… как написано в твоей пьесе – ты сидишь за своим столиком. И бешено ее ревнуешь! Мы поверим в это? Ты плохо слушаешь?
Он. Знаешь, мне кажется…
Она (почти испуганно). Болит? (Страшно торопливо.) Не может быть! Не может! Слышишь? (Продолжает танцевать) Она танцевала… подставив свой вечно жаждущий позвоночник. И кинорежиссер возложил на него свою мертвую руку! И вот тогда, танцуя, кинорежиссер обнажил свои чудовищные зубы: «фэ-фэ-фэ» и предложил ей с ним уехать. Она погибала от его уродства. И «третий глаз» вовсю рисовал «каприччос»! «Мне бежать за такси?» – шептал кинорежиссер. Она поняла: свершается, свершается! То, о чем она столько раз мечтала! И она согласилась, и кинорежиссер убежал… А она все смотрела на столик – где сидел он один… И умирала от любви!
Он. Мне по правде… больно!
Она (выкрикнув). Мнительный! Как все мужчины. Ты просто мнительный, понял? Что у нас дальше? И ты вдруг встал и подошел ко мне… Свершилось! Боже! Она замерла, предчувствуя боль объяснения, счастье примирения… И нежный собачий визг уже стоял в груди. Ха-ха-ха! Ну что же ты сидишь? Мы же играем! «Лила»! Торопись!
Он (с трудом поднимается). Я не понимаю… Почему больно?
Она (визжит). Мнительный, мнительный! Ну, иди, иди… Подойди ко мне, как тогда. Близко-близко, чтобы я увидела… то – в глазах. А дальше… мы заговорили… В общем, ты точно записал наш разговор, все точно. Читай! Читай! Ну! Ну!
Он (читает). «Послушай, ты сошла с ума?»
Она. Ты забыл схватить меня за руку.
Он послушно хватает.
«Не надо хватать за руку… синяки остаются… у меня кожа ненормальная»…
Он (читает). «Послушай, ты видишь его в первый раз».
Она. «Когда тебе кто-то нравился в первый раз, ты с ней уходил? Почему я не могу? Мы работаем на равных. Давай уже все на равных»… Ха-ха-ха.
Он. «Ты с ним не пойдешь…»
Она. «Мне опять больно».
Он. «Он – мой друг».
Она. «Не надо иметь таких друзей».
Он. «Он – мразь, урод»…
Она. «Ну зачем же так о друге?»
Он. «Ну давай поговорим. Ну в последний раз…»
Она. «Ага… Пусть у нас будет вечер расставанья… Потом ночь расставанья… А потом весь этот ад потянется сначала?» Ха-ха-ха… Ты правильно все записал в своей пьесе. Точнее – правильно записал слова. Только укажи, пожалуйста, в примечании, что эти слова, как и все другие слова в твоей пьесе, не имеют никакого значения! Потому что все свои «ужасные» слова она произносила совсем счастливым голосом: она торопила счастье примирения… И ему достаточно было… как всегда, дотронуться губами до ее сумасшедшего уха… или возложить персты на ее сентиментальный позвоночник… Но он… Он спрятал свои лгущие глаза. Он показал, будто верит ее «ужасным словам». И вот тогда он сделал единственное, чего нельзя было делать, – он ударил ее! Точнее, он сделал единственное, что нужно было сделать, чтобы она ушла с тем, с другим. Почему же он… который знал все о ней… (Шепчет.) Он хотел, чтобы она ушла с другим? Тсс… Но что же ты сидишь? Что там у тебя по тексту… «Он бьет ее». Ну бей! Бей! Бей, скотина! Корзинка для мухоморов! (Вопит?) Ну? Ну? Что же ты?
Он вдруг бьет ее.
Не так! Бей, как тогда!
Он. Мне… плохо…
Она (азартно). По вопящему рту! Ну! Ну! Ну!
Он неожиданно бьет ее.
Молодец… Теперь я могу прочесть ремарку: «Она убегает». (Бежит по комнате и застывает?) Заметил? Я остановилась в дверях! Как вкопанная! Потому что вдогонку… как выстрел! В спину! Ты ударил последней фразой! Ну! Давай ее! Ведь ради нее все было! Что же ты?! Ведь вся сцена была, чтобы ты имел право прокричать вслед эту фразу! Ну! Ну! Кричи!
Он. «Ну что ж, теперь действительно все!..»
Она (аплодирует). Ах, какая фраза! Знаешь, я ее часто вспоминала… потом… Но до конца поняла ее однажды зимой, когда «третий глаз» пошалил! Ха-ха-ха! Дело происходило в парке «Сокольники». Стояли сосны в снегу. И там, среди сосен, я часто встречала милого старичка пенсионера. Он носил еду белкам. А зима была холо-о-одная. И белки ради еды стали совсем ручные. Они его узнавали и поедали орешки прямо из его рук. А потом однажды я увидела, как били моего милого старичка. И лицо у него было какое-то покорное, равнодушно-спокойное. Оказалось, он этих белочек… как бы это сказать… едой завлекал… приручал. А потом… когда они становились совсем ручные – он бац их – в мешок! И на шапку! Ха-ха-ха! Он был – беличий соблазнитель. И тогда я подумала: когда он их в мешок швырял – он наверняка приговаривал: «Вот теперь действительно все!» Ты не слушаешь?
Он. Меня… мутит.
Она. Знаешь, я подумала… если эти грибы действительно… Жаль, что я их тоже не съела. В конце концов, может быть, смерть – самое интересное в жизни…