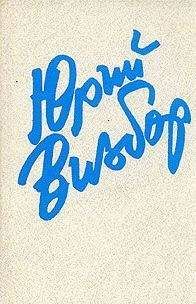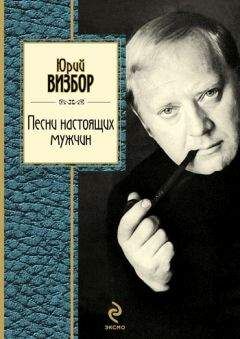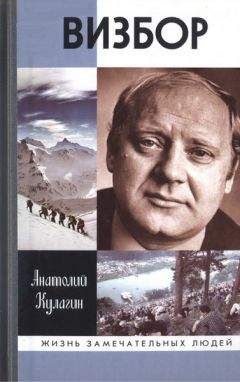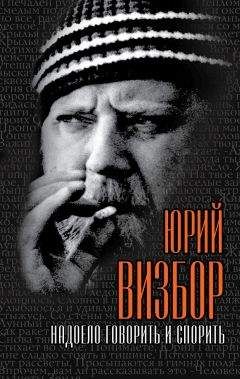Юрий Визбор - Том 2. Проза и драматургия
Уехало мое поколение на самой последней подножке воинского эшелона.
В сущности — это прозрение, делающее честь чутью историка, хотя ничего такого у Визбора в строчках не прописано. Героический характер, созданный в советскую эпоху и пропагандистски неотделимый от 1917 года, передислоцируется у него в 1941-й. Не Октябрьская революция, а Отечественная война становится тем событием, которое оправдывает существование советского человека.
В этом есть огромный исторический смысл. Революционная идеология и весь мечтательный план коммунизма — не более чем наркоз, под которым народ, униженный бессилием державы в первую мировую войну, должен был подготовиться ко второй, еще более страшной. Из населения сделаться народом, из народа — армией. Это дело смертельное: всеобщая казарма, лагерь как норма жизни, диктатура, деспотия, тоталитарность… Чтобы все это вынести, требуется эйфория. Она и называется коммунизмом. Но дело не в слове. И не в доктрине. Дело в характере, который выковывается для подступающего исторического дела. Визбор слова «коммунизм» не употребляет, о революции — не ведает. Но он чувствует, что тот реальный характер, который он наследует от старших братьев, предназначен для великой задачи, и он ее угадывает, когда говорит: Война.
Поначалу это кажется несколько искусственным, даже театральным: Спасибо вам, ребята, что вы остановили хваленых немецких егерей, что вы воевали и победили. Поначалу Визбор именно как актер вживается в образ фронтовика: в финале фильма «Июльский дождь» — отличный актерский эпизод, хотя чувствуется, что — актерский. Однако, когда читаешь прозу Визбора, собранную вместе, начинаешь понимать, что Отечественная война, которую будущие шестидесятники захватили только краешком детства, становится для них не просто главным эпизодом накрывшей их мировой истории, но драмой, которая может объяснить их появление в реальности.
Только они и впрямь — на краешке. На последнем рубеже эйфорической веры. За мгновение до остановки. Как в буксующем такси: колеса крутятся, счетчик щелкает, время уходит, силы кончаются, а движения нет.
В войну такси, разумеется, отсутствовало. Но было движение: от воронки к воронке. От окопа к окопу. От могилы к могиле. К светлому будущему.
Когда будущее отменяется, а прошлое не простирается дальше ближней памяти, остаются только могилы и воронки. И это счастье. Прошедшее счастье. От которого остается — характер. А потом от характера — строки.
Четверть века назад какой-то солдат повесил на березу винтовку. Четверть века она висела на этой березе. Сталь ствола съела ржавчина, ремень сгнил. Но ложе приклада приросло к березе, стало ее частью, и сквозь этот бывший приклад уже проросли, пробились к солнцу молодые веселые ветки. То, что было орудием войны, стало частью мира, природы. И я тогда подумал, что это и есть — я, мы, мое поколение, выросшее на старых, трудно затягивающихся ранах войны.
Поколение, впитавшее эту память, прошло своим маршрутом меж войнами: от последних выстрелов Отечественной войны и до первых выстрелов, под которые стала распадаться держава.
Поколение пропело свои песни у костров — под треск стреляющих веток.
Поколение успело понять, откуда оно и зачем было создано, прежде, чем огонь угас.
Декабрь 1997
П. Аннинский
Повести
НА СРОК СЛУЖБЫ НЕ ВЛИЯЕТ
Пролог
Вряд ли город Дубна слышал песни в строю. Впрочем, город этот строили не то заключенные, не то пленные немцы. Может быть, они что-то нестройно выкрикивали из репертуара, утвержденного лагерным начальством. Теперь другое время. Теперь пленных немцев нет.
И нам свободно и радостно. Может, потому, что сегодня первый летний день и он — «совершенно случайно» — оказался воскресеньем. Может, потому, что мы обгорели на солнце и на пляже познакомились с двумя девушками, которые выдавали себя за артисток закрытого (только для ответработников и заграницы) цирка. Может, потому, что нет пленных немцев. Может, потому, что мы все шли в гости к академику, а академики, как известно, получают большие деньги, и тот академик, к которому мы шли, возможно (но не обязательно), покормит нас обедом. Может, потому, что все мы были без жен и могли дурачиться сколько нам вздумается.
Я сказал: «Ну-ка, ласточки, давайте прибавим шаг, потому что академик ждет до пяти, а сейчас четыре!»
Мы никогда не следим за собой, не думаем, как говорим. Наш речевой аппарат выталкивает информацию согласно приобретенному опыту, готовым откликам, шаблонам подражательства. Это «ну-ка», это «прибавим шаг» — все это издалека, из глубин памяти, от белых, полинялых на ветрах палаток, от пахнущих одеколоном старшин, от стонущих на песчаных косогорах танков с десантом на борту, от ежедневного строя в столовую: кружка с ложкой за поясом, барабан впереди. Запевай! Я некоторое время ждал — как-то неестественно петь по команде. Но все же ей нужно и подчиниться. Поэтому я ждал ровно столько времени, сколько требовалось сержанту для того, чтобы ему в голову пришла мысль, что никто не запевает и это есть неподчинение приказу. Правда, я и сам стал сержантом, и сам водил роту, и сам командовал — запевай! Но никогда после команды не искал глазами в строю запевалу и никогда грозно на него не глядел. Я знал, что это для него унизительно.
Я пел:
Бронетанковая школа
Комсостав стране своей кует.
Танки в бой вести готовы
За трудящийся народ!
Я пел:
Джон, подшкипер с английской шхуны,
Плавал немало лет,
Он объездил (!) моря-лагуны (!),
Старый и Новый Свет!
(В армии много таких песен. Они совершенно бессмысленны, и просто — я понял это позже — просто глупо в них искать какой-то смысл. Строевая песня связывает мужчин, показывает им, что их — много; слова в ней нужны только для того, чтобы что-то вместе крикнуть, вместе шагнуть, вместе свистнуть на всю улицу, весь квартал, весь мир; она нужна для того, чтобы вместе тянуть по этому холоду ледяной путь до столовой, до лета, хотя бы до демобилизации.)
Я пел:
На рейде у пирса эсминец стоял,
Матросы с родными прощались.
А море сверкало такой красотой
И где-то вдали исчезало.
А там — в той аллейке, где пел соловей,
Где часто звучала гитара,
С девчонкой прощался моряк молодой,
Надолго ее покидая.
Он снял бескозырку и тихо сказал:
Прощай, дорогая Маруся!
Вот скоро возьмем Севастополь родной,
К тебе, дорогая, вернуся.
А боцман стоял и на это смотрел,
Смотрел и как будто смеялся.
Раздалась команда — поднять якоря! —
Крик боцмана громко раздался.
Эсминец пошел все вперед и вперед,
Машины в ритм сердца стучали,
А море сверкало такой красотой
И где-то вдали исчезало!
Леня Шнурков, наш друг по эшелону
— Самое страшное ругательство на Севере, — сказал Ленька, — это волосан или волосюга. Если один капитан сказал в эфире другому, что он волосан — все море закричит, корабли на таран пойдут! Точно. Другое слово — баклан. «Баклан», понятно, послабже «волосана», но тоже слово хорошее. Как сказал — баклан, так в морду сразу первый давай, потому что все равно схлопочешь. Так уж лучше первому, правильно? Есть такой закон проверенный!
Остальные ругательства, которыми в России ругаются, — чешуя, лишний труд. А вот за баклана — враз схлопочешь. А то и ножик достану. Вот он, тбилисского производства. Со стопором. А за волосана…
Ленька только безнадежно махнул рукой. Стало быть, и думать нечего про волосана.
— Ну-ка вот ты, — сказал Ленька Вовику, — обзови-ка меня бакланом!
— Зачем? — спросил Вовик.
— А-а! — торжествующе сказал Ленька. — Стало быть, не держишь меня за баклана?
— Ни в коем случае, — сказал Вовик, — это было бы в высшей степени безнравственно.
— То-то, — сказал Ленька все с той же торжествующей интонацией, будто доказал нам обоим нечто замечательное и важное.
Тут по совершенно пустому вагону нашему, который летел меж рыжих лесов в серой воде мелкого дождя, прошла проводница с веником. Ленька мигом завопил:
— Дочка, дочка, дай шашек!
— Всем вам дай да дай, — вдруг сказала проводница, — всем давать — с ума сойдешь!
— Ишь ты какая шустрая, как ботинок, — подмигнув нам, сказал Ленька, — а ты иди сюда, посмотри, что у меня есть!
— Видала, видала, не такие видала! — весело крикнула уже с конца вагона проводница.