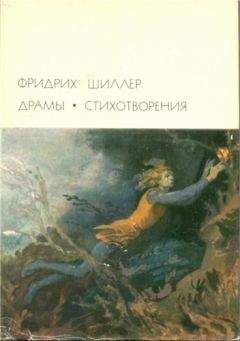Антон Чехов - том 13 Пьесы 1895 – 1904
Елена Андреевна(взволнованная, мужу). Александр, ради бога объяснись с ним… Умоляю.
Серебряков. Хорошо, я объяснюсь с ним… Я ни в чем не обвиняю, я не сержусь, но, согласитесь, поведение его по меньшей мере странно. Извольте, я пойду к нему. (Уходит в среднюю дверь.)
Елена Андреевна. Будь с ним помягче, успокой его… (Уходит за ним.)
Соня(прижимаясь к няне). Нянечка! Нянечка!
Марина. Ничего, деточка. Погогочут гусаки — и перестанут… Погогочут — и перестанут…
Соня. Нянечка!
Марина(гладит ее по голове). Дрожишь, словно в мороз! Ну, ну, сиротка, бог милостив. Липового чайку или малинки, оно и пройдет… Не горюй, сиротка… (Глядя на среднюю дверь, с сердцем.) Ишь расходились, гусаки, чтоб вам пусто!
За сценой выстрел; слышно, как вскрикивает Елена Андреевна; Соня вздрагивает.
У, чтоб тебя!
Серебряков(вбегает, пошатываясь от испуга). Удержите его! Удержите! Он сошел с ума!
Елена Андреевна и Войницкий борются в дверях.
Елена Андреевна(стараясь отнять у него револьвер). Отдайте! Отдайте, вам говорят!
Войницкий. Пустите, Helene! Пустите меня! (Освободившись, вбегает и ищет глазами Серебрякова.) Где он? А, вот он! (Стреляет в него.) Бац!
Пауза.
Не попал? Опять промах?! (С гневом.) А черт, черт… черт бы побрал… (Бьет револьвером об пол и в изнеможении садится на стул.)
Серебряков ошеломлен; Елена Андреевна прислонилась к стене, ей дурно.
Елена Андреевна. Увезите меня отсюда! Увезите, убейте, но… я не могу здесь оставаться, не могу!
Войницкий(в отчаянии). О, что я делаю! Что я делаю!
Соня(тихо). Нянечка! Нянечка!
Занавес
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Комната Ивана Петровича; тут его спальня, тут же и контора имения. У окна большой стол с приходо-расходными книгами и бумагами всякого рода, конторка, шкафы, весы. Стол поменьше для Астрова; на этом столе принадлежности для рисования, краски; возле папка. Клетка со скворцом. На стене карта Африки, видимо, никому здесь не нужная. Громадный диван, обитый клеенкой. Налево — дверь, ведущая в покои; направо — дверь в сени; подле правой двери положен половик, чтобы не нагрязнили мужики. Осенний вечер. Тишина.
Телегин и Марина сидят друг против друга и мотают чулочную шерсть.
Телегин. Вы скорее, Марина Тимофеевна, а то сейчас позовут прощаться. Уже приказали лошадей подавать.
Марина(старается мотать быстрее). Немного осталось.
Телегин. В Харьков уезжают. Там жить будут.
Марина. И лучше.
Телегин. Напужались… Елена Андреевна «одного часа, говорит, не желаю жить здесь… уедем да уедем… Поживем, говорит, в Харькове, оглядимся и тогда за вещами пришлем…». Налегке уезжают. Значит, Марина Тимофеевна, не судьба им жить тут. Не судьба… Фатальное предопределение.
Марина. И лучше. Давеча подняли шум, пальбу — срам один!
Телегин. Да, сюжет, достойный кисти Айвазовского.
Марина. Глаза бы мои не глядели.
Пауза.
Опять заживем, как было, по-старому. Утром в восьмом часу чай, в первом часу обед, вечером — ужинать садиться; все своим порядком, как у людей… по-христиански. (Со вздохом.) Давно уже я, грешница, лапши не ела.
Телегин. Да, давненько у нас лапши не готовили.
Пауза.
Давненько… Сегодня утром, Марина Тимофеевна, иду я деревней, а лавочник мне вслед: «Эй ты, приживал!» И так мне горько стало!
Марина. А ты без внимания, батюшка. Все мы у бога приживалы. Как ты, как Соня, как Иван Петрович — никто без дела не сидит, все трудимся! Все… Где Соня?
Телегин. В саду. С доктором все ходит, Ивана Петровича ищет. Боятся, как бы он на себя рук не наложил.
Марина. А где его пистолет?
Телегин(шепотом). Я в погребе спрятал!
Марина(с усмешкой). Грехи!
Входят со двора Войницкий и Астров.
Войницкий. Оставь меня. (Марине и Телегину.) Уйдите отсюда, оставьте меня одного хоть на один час! Я не терплю опеки.
Телегин. Сию минуту, Ваня. (Уходит на цыпочках.)
Марина. Гусак: го-го-го! (Собирает шерсть и уходит.)
Войницкий. Оставь меня!
Астров. С большим удовольствием, мне давно уже нужно уехать отсюда, но, повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь того, что взял у меня.
Войницкий. Я у тебя ничего не брал.
Астров. Серьезно говорю — не задерживай. Мне давно уже пора ехать.
Войницкий. Ничего я у тебя не брал.
Оба садятся.
Астров. Да? Что ж, погожу еще немного, а потом, извини, придется употребить насилие. Свяжем тебя и обыщем. Говорю это совершенно серьезно.
Войницкий. Как угодно.
Пауза.
Разыграть такого дурака: стрелять два раза и ни разу не попасть. Этого я себе никогда не прощу!
Астров. Пришла охота стрелять, ну, и палил бы в лоб себе самому.
Войницкий(пожав плечами). Странно. Я покушался на убийство, а меня не арестовывают, не отдают под суд. Значит, считают меня сумасшедшим. (Злой смех.) Я — сумасшедший, а не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого мага, прячут свою бездарность, тупость, свое вопиющее бессердечие. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков и потом у всех на глазах обманывают их. Я видел, видел, как ты обнимал ее!
Астров. Да-с, обнимал-с, а тебе вот. (Делает нос.)
Войницкий(глядя на дверь). Нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас!
Астров. Ну, и глупо.
Войницкий. Что ж, я — сумасшедший, невменяем, я имею право говорить глупости.
Астров. Стара штука. Ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут гороховый. Прежде и я всякого чудака считал больным, ненормальным, а теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека — это быть чудаком. Ты вполне нормален.
Войницкий(закрывает лицо руками). Стыдно! Если бы ты знал, как мне стыдно! Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какою болью. (С тоской.) Невыносимо! (Склоняется к столу.) Что мне делать? Что мне делать?
Астров. Ничего.
Войницкий. Дай мне чего-нибудь. О боже мой… Мне сорок семь лет; если, положим, я проживу до шестидесяти, то мне остается еще тринадцать. Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их? О, понимаешь… (судорожно жмет Астрову руку) понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось, как дым. (Плачет.) Начать новую жизнь… Подскажи мне, как начать… с чего начать…
Астров(с досадой). Э, ну тебя! Какая еще там новая жизнь! Наше положение, твое и мое, безнадежно.
Войницкий. Да?
Астров. Я убежден в этом.
Войницкий. Дай мне чего-нибудь… (Показывая на сердце.) Жжет здесь.
Астров(кричит сердито). Перестань! (Смягчившись.) Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, — те, быть может, найдут средство, как быть счастливыми, а мы… У нас с тобою только одна надежда есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, то нас посетят видения, быть может, даже приятные. (Вздохнув.) Да, брат. Во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас; она своими гнилыми испарениями травила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все. (Живо.) Но ты мне зубов не заговаривай, однако. Ты отдай то, что взял у меня.
Войницкий. Я у тебя ничего не брал.
Астров. Ты взял у меня из дорожной аптеки баночку с морфием.
Пауза.
Послушай, если тебе во что бы то ни стало хочется покончить с собою, то ступай в лес и застрелись там. Морфий же отдай, а то пойдут разговоры, догадки, подумают, что это я тебе дал… С меня же довольно и того, что мне придется вскрывать тебя… Ты думаешь, это интересно?