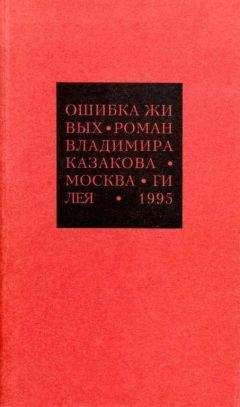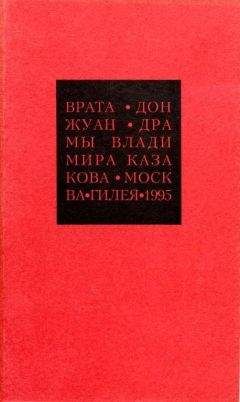Владимир Казаков - Избранные сочинения. 3. Стихотворения
и львы бродили — там где поле
девиз лазурно разделял.
их непохожее рычанье
будило крепнущую стать,
и осень мерно отмечала
поверхность каждого листка.
то золотой особой метой,
то светом звонко-световым,
то ветром просто колебала
пожарищ выдуманный дым.
подходит ветер, говорит
на языке своем ветвистом,
а вместо пауз — тишина
сквозь затихающие листья.
ведь дождь весь состоит из слов
из вертикальных строк шумящих...
число не спит, сон числа — это ноль.
нечем закрыть холод, и даже счет
его закрыт свежим сном.
даль всегда стоит по порядку первой
или третьей или...
он прислонился, тень не сама последо
вала его примеру. стена дважды в год
становилась осенней. из окна вид.
ветер берет вид и несет к другим.
навстречу другой а с ним другое. это
называется столкновением.
она спросила: кто вы?
он: почти что граф, но только нет.
и ветер долго удивлялся, неся столь
северный ответ.
с годами форма облаков изменяется,
изменяется и форма ветра, лишь годы
не...
вдруг холод изменился и стал гораздо
неизменнее, я подумал: что это — Боль
шая Ошибка или Ордынка?
в ответ прогрохотал ответ — то с крыш,
то нет,
то с самых кровель,
и ветер, изменяя цвет,
казался вздувшеюся
кровью
* * *и в самом деле, ничто так не дробится, как
ничто. на этом его свойстве основана не
только плавучесть судов, но и тонучесть
многих из них.
например, самый затонувший в мире корабль —
это корвет «Ханская ночь», который
приходился дальним фрегатом острову
Поползновения.
впрочем, история эта не имеет начала,
следовательно она из тех историй, которые
рано или поздно начнутся, если я не прав,
то галера, именем которой назван один из
берегов Бургундского океана, была прикована
той же самой цепью к тому же самому началу,
что и вышеназванная правота.
— но кто владелец этого океана? —
спросите вы.
отвечу: по сей день — Посейдон.
1983—1988
дорогой маме
приснись, старинный плен — хотя бы в виде ночи,
хотя бы в виде сна с единственной звездой,
которой каждый луч таинственно отточен
и явью обагрен заоблачно-густой.
приснись, старинный плен, приди из ниоткуда:
ведь ниоткуда — здесь, а никогда — сейчас.
у воздуха уже соленый привкус чуда,
прозрачный привкус слез из падающих глаз.
о, снов голубизна — основ чугунной яви!
не твой ли быстрый цвет грохочет по мостам,
как будто поцелуй за грохотом объявят
словно старинный плен, безмолвные уста?
* * *о, дождь Венеции, о, дож венецианский,
скажи, каким числом должны все числа стать,
чтоб выразить твое безгневное пространство,
чтоб выразить твою бушующую стать?
скажи, какую даль должно избрать молчанье,
чтобы оттуда вновь нахлынуть как слова?
скажи, о, дож седой, скажи, о, дождь безглавый...
молчи, как этот гром, суровая глава!
* * *чтоб каждой ночи дать единственное имя —
неповторимое и светлое притом —
я звонко окружен мгновеньями моими,
мерцающими вспять, как звездный небосклон.
и в самой гуще их — имен, а не мгновений —
и в самой толще их — мгновений, а не звезд —
одно и то же вспять безмолвное движенье,
один и тот же вглубь непостижимый рост.
как будто никогда не встретится то имя,
которому не быть отныне так легко,
которое тебя с мгновеньями твоими
могло бы возвратить столь звонко-далеко
* * *когда рассвет неосторожно
коснулся темного окна,
графиня вздрогнула, и сразу
просторней стала тишина.
при свете звонкого бокала,
при тьме искрящихся минут
она с улыбкой различала
просторы, стиснутые тут.
их было несколько — просторов,
один особенно был бел,
и даже воздух (был он фландрский)
над ним по-фландрски голубел.
ему, то есть конечно графу,
седлают верного коня:
стучат воинственно подковы,
сверкает черная броня.
графиня молча пригубила
вино — почти что тишину,
как будто звуки возвратились
к недавно виденному сну.
а всадник медленно-суровый
глядел задумчиво туда,
где осажденные просторы
не будут взяты никогда
НОЧНОЙ ДОЗОРпока толпа стрелков дозором обходила
тот сумрак боевой, который был вокруг,
неведомых минут неведомая сила
суровый облик стен преобразила вдруг.
когда так много шпор — серебряных звенящих,
когда так мало дней — случайных золотых,
тогда осенний дождь сбивается все чаще
с прозрачной прямизны на полуночный стих.
и древние гербы становятся древнее
еще на древний миг, который с высоты
упал или сошел, или опал беззвучно,
как опадают те осенние листы.
как благородна тень вояки-дворянина!
она свой древний род ведет от тени той,
которая судьбу настенную вершила
всей прежней тишины — небесной и земной.
пока толпа дождей дозором обходила
окрестные века с их белой прямизной,
графиня-озорник, прелестная на диво,
улыбкой отреклась от паузы одной,
которая одна среди старинных пауз
мерцала об одном, подобно слову «сталь».
подобно слову «миг», который опадает
беззвучней и желтей осеннего листа.
когда настал рассвет, то их ночные латы
не сразу обрели свой утренний наклон,
и всадники вошли, овеянные тьмою
и звездной синевой отхлынувших сторон.
но если прав девиз — начертанный надменный,
то значит для вина нет краткости иной,
как та, что, захлебнув мерцающее время,
становится сама сплошной голубизной
* * *где дремлют сонмы звезд в необозримом небе
и видят русский сон такой же или нет,
мерцает тишина как некий звук полночный,
меняя каждый миг свой век или свой цвет.
особенно одна — которая всех тише,
к которой нет пути ни слуху ни очам,
которая собой весь миг исколыхала,
сгорая и звеня, как певчая свеча.
когда родится дождь или родится ангел,
она объемлет их почти что не собой,
сквозь шелест светлых струй, сквозь
шелест светлых крыльев
заканчивая век и цвет и шелест свой
* * *из всех старинных снов, пожалуй, самый странный
не тот, который есть, а тот, который был.
и вспомнятся дожди, как медленные страны,
влекомые на край синеющей судьбы.
в их темной глубине — такой же одинокой,
как быстрая печаль осенних облаков,
находят свою сталь мерцающие строки
и огненный наклон для вычеркнутых слов.
но вот проходит век, свеча уж догорает,
от древней темноты осталась только тень,
и воздух сам себя от края и до края
просматривает вдаль и видит новый день
* * *луна светила полковая,
сидел наш лекарь полковой
и сочинял стихи вздыхая
качая лунной головой.
к нему придя из авангарда,
стояла муза на ветру,
костры дымились арьергарда,
был горек запах тонких струй.
и ночь, к своим стихам склоняясь,
шептала поздние слова,
и кони молча удивлялись,
и вслух тревожилась трава
СТАРИННАЯ БАШНЯкто замурован здесь? ответ один, осенний:
здесь замурован ты, осенний птицелов.
в прозрачной тишине похрустывают тени
то медленных секунд, то медленных веков.
беззвучен только свет и только боль беззвучна,
но цвет ее так мал в сравнении с ничем,
что даже черный край багрово-белой тучи
зазубривает сталь полуденных лучей.
не ангел и не дождь, а как бы некто третий
касается крылом невидимых времен,
к которым птицелов, столь праздный и осенний,
всей башенной судьбой безмолвно устремлен
МАТРЕШЕЧКЕоднажды или никогда
или когда-нибудь сегодня
бегут вечерние года —
как облака, легко свободно.
и пламя тонкое свечей
почти невидимо колышут
и исчезают все светлей
и все заоблачней и выше.
и только детский профиль твой,
едва колышемый, вечерний,
так неразлучен с тишиной,
как бой часов — старинный, мерный.
и только детский лепет твой
так неразлучен и волшебен,
как след заоблачно-простой
в невозвращающемся небе
ВРЕМЯпростившись с кем-нибудь — с какою-нибудь крышей —
уходит ветер вдаль — туда, где дали нет,
где самому себе не виден и не слышен
грохочет в облаках обмолвившийся свет.
но еще ближе крыш и еще дальше света —
какой-то странный миг, всегда стоящий здесь:
одно его крыло задумчиво воздето,
другое — (тоже за) опущено к воде.
и полночь и мосты, когда они настанут,
с тем мигом совпадут, но поздняя гроза