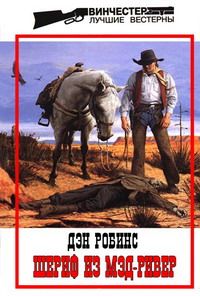Дмитрий Мережковский - Данте. Киносценарий
В самый глухой час ночи, когда в доме все уже спят, Данте остается наедине с дочерью, Антонией, послушницей Равеннского монастыря св. Уливы, будущей монахиней, сестрой Беатриче. Дочь укладывает его в постель и готовит ему на ночь питье.
— Весь как в огне, — говорит, пощупав ему рукою лоб. — Батюшка, ты очень болен, я пошлю за мессером Фидуччио…
— Нет, завтра пошлешь, я хочу спать, ступай… Никому не говори, что болен, — никому, слышишь?
— Батюшка, миленький, позвольте остаться! Я только здесь, в уголку, прикорну, мешать вам не буду…
— Нет, ступай! Вон как со мной измучилась, бедная, лица на тебе нет… Ступай же, ступай, что же ты стоишь?
Дочь идет к двери.
— Стой, погоди! Вот здесь, под подушкой, ключ. Нашла? Там, в углу, железный ларец. Отопри. Пачка листов, на самом дне, красным шелком перевязана. Нашла? Давай сюда, сунь под подушку, вот так…
— Что это, батюшка?
— Все равно, что. Никому не говори. Последние тринадцать Песен «Рая». Надо кое-что поправить завтра. Что еще я хотел, погоди… Нет, ничего. Ступай!
Долго молча лежит, с закрытыми глазами и неподвижным, точно каменным, лицом. Дочь смотрит на него и тихо плачет.
— Ох, опять эта жижка проклятая! — шепчет он быстро и невнятно, как в бреду. — Вертится, вертится, трещит: «Три — Три — Три…» Знаешь, сестра моя, Беатриче, что такое Три? Отец, Сын и Дух Святой, твое Число Божественное, — Три…
Вдруг открывает глаза и смотрит на нее, как будто не узнает:
— Ты? Опять ты?.. Что ж ты стоишь? Ступай же! Ступай! Ступай! — кричит и плачет злобно, как маленький ребенок.
Дочь уходит. Данте, оставшись один, опять долго лежит с неподвижным лицом и закрытыми глазами. Потом вдруг открывает их и, пристально глядя на распятие, висящее на стене, против изголовья постели, шепчет все быстрее, невнятнее:
О, Юпитер,
За нас распятый на земле, ужели
Ты отвратил от нас святые очи?[87]
Кто от кого отвратил. — Ты от нас. Или мы от тебя? Точно какая-то черная тень легла между Тобой и нами; точно обидел Ты нас какой-то нездешней обидой, какой-то Горечью неземной огорчив, Не потому ли и Духа назвал Ты сам «Утешителем», как будто знал, что чем-то огорчишь людей, от чего надо будет их утешить Духу? «Отступи от меня, чтоб я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня!»[88] Точно между Тобой и мной было всю жизнь то же, что в начале жизни, между Мной и Ею. Возлюбленной, когда Она отказала мне в блаженстве приветствия, и я почувствовал такую скорбь, что, уйдя от людей туда, где никто не мог меня видеть и слышать, я начал плакать и, плача, уснул, как маленький прибитый мальчик… Не наяву, когда я о Тебе думаю, а во сне, когда я мучаюсь Тобой, кто кого разлюбил, я — Тебя, или Ты — меня!
— А знаешь, что умрешь?
— Кто это сказал, я или Он… или ты?..
— Кто бы ни сказал, мой друг, так оно и есть. Знаешь ли: что ты — великий грешник? Помнишь, как в Раю, ты отвратил глаза от Солнца — Лика Христова, и только в Ее Лицо смотрел? Помнишь, как Она сама тебе сказала:
Зачем ты так влюблен в мое лицо,
Что и смотреть не хочешь на прекрасный
В лучах Христа цветущий Божий Сад?[89]
Вечно-памятное для тебя видение — Она, а Он — видение забытое. Солнце Ее — Ее улыбкой — затмилось для тебя Солнце Христа. Ближе тебе Она, нужнее, чем Он. Ты Его не знаешь, не видишь, потому что меньше любишь Его, чем Ее. Тварь вместо Творца, смертная вместо Бессмертного, — вот твой грех. Знаешь, что надо сделать, чтоб грех искупить?
— Знаю.
— Сделаешь?
— Если и сделаю, то без тебя, против тебя!
— Нет, со мной. Я пришел тебя спасти. Знаешь, что в последних тринадцати песнях «Рая» твой грех? Знаешь, что надо сделать, чтобы его искупить?
— Молчи, уйди, уйди! Именем Ее заклинаю, уйди!
— Именем Ее, а не Его?.. Я уйду, а ты решай, хочешь ли душу твою спасти ради себя, или ради Него погубить…
Данте открывает глаза и, глядя на распятие, долго лежит с неподвижно каменным, точно мертвым лицом. Потом, вынув из-под подушек ключ и тринадцать пачек листков, перевязанных красным шелком, встает с постели, весь дрожа от озноба так, что зуб на зуб не попадает, подходит к ларцу, отпирает его, вынимает глиняный горшочек с известью, малярную кисть, молоток с гвоздями и камышовую циновку stuoia. Медленно, с трудом, как будто подымая неимоверную тяжесть подвешенный к шее мельничный жернов, подходит к «оконцу» или «печурке» в стене, finestretta, для рукописи и книг, кладет туда пачки листков, закрывает циновкой, прибивает ее гвоздями к стене, забеливает известью так ровно, что ничего не видно, снова ложится в постель и, глядя на распятие, шепчет:
— «Господь Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня»… (Пс… 24, 1–4).
4.В 1321-ом году, в ночь с 13-го сентября на 14-ое, день Воздвижения Креста Господня и поминовения крестных язв св. Франциска Ассизского, государь Равенны, Гвидо да Полента, сыновья Данте, Пьетро и Джьякопо,[90] дочь его, Антония, ученики и друзья собрались в комнате умирающего Данте. Инок Францисканской обители читает отходную таким уныло-однозвучным голосом, как жужжание болотных комаров зензан.
Данте, уже причастившись, лежит на постели, в длинной, темно-коричневой грубого войлока, подпоясанной веревкой, монашеской рясе нищих братьев св. Франциска. Руки сложил крестом на груди и закрыл глаза, с таким неподвижно-каменным лицом, что смотрящие на него не знают, жив он или умер.
— Кончился? — спрашивает государь шепотом на ухо врача.
Нет, еще дышит, отвечает тот, приложив ухо к груди умирающего.
Данте вдруг широко открывает глаза и произносит громким внятным голосом:
О clemens, o pia,
О dulcis Virgo Maria!
Верую в Три Лица Вечные, Отца и сына и Духа Святого. Три — Три — Три!
Тело его то пылает в жару, как в вечном огне, то леденеет в ознобе, как в вечных льдах. Но больше, чем тело, страдает душа: все еще не знает он, надо ли было делать то, что он сделал, или не надо; спас ли он душу свою, погубив ее ради Того, Кто велел погубить, или, спасая ради себя, погубил?
Бело-белое, в черно-красной мгле, пятно стоит перед его глазами, и он знает, что будет вечно стоять, никогда не уйдет. Все не может понять, что это; может быть, забеленное оконце в стене? Нет, что-то другое, неизвестное. Вдруг понял: белое, ледяное и огненное вместе, леденящее и жгущее, есть вечная мука ада вечная смерть. Но только что он это понял, как услышал тихие, знакомые шаги, и на ухо шепнул ему знакомый, тихий голос.
— Не узнаешь? Смотри, смотри же: это я, я, Беатриче!
И он увидел наяву то, что некогда видел во сне, в видении:
Она явилась мне… в покрове белом
На ризе алой, как живое пламя.
И после стольких, стольких лет разлуки,
В которые отвыкла умирать,
Душа моя в блаженстве перед Нею,
Я, прежде чем Ее мои глаза
Увидели, уже по тайной силе,
Что исходила от Нее, узнал,
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к ней, древняя, как мир.
И тою же опять нездешней силой
Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда Ее увидел в первый раз.[91]
Тихо уста припали к устам, и этот первый поцелуй любви был тем, что казалось людям смертью Данте, а для него самого было вечною жизнью — Раем.
5.Месяцев через восемь по смерти Данте, после бесконечных поисков пропавших песен «Рая», когда перестали их искать, думая, что они безнадежно потеряны, или даже вовсе не написаны, и когда сыновья Данте, Джьякопо и Пьетро, начали, с «глупейшим самомнением», присочинять от себя эти песни, Данте явился Джьякопо во сне, «облаченный» в одежды белейшего цвета и с лицом, осиянным нездешним светом.
Ты жив, отец? — спросил его Джьякопо.
— Жив, но истинной жизнью, — не вашею, — ответил Данте.
— Кончил ли «Рай»?
Кончил, и взяв его за руку, он повел его в ту комнату, где спал живой и умер; прикоснулся рукой к стене и сказал:
— Здесь то, чего вы искали.
Спящий проснулся. Час был предутренний, но еще темно на дворе. Встав поспешно и выйдя из дому, Джьякопо бежит к мессеру Пьетро Джиардино и рассказывает ему о чудесном видении. Тотчас же оба спешат в дом, где жил Данте, находят указанное на стене место, нащупывают прибитую к нему циновку и, потихоньку отодрав ее, видят никому не известное «оконце», где лежит пачка листков.
— Что это? спрашивает Пьетро, весь дрожа и бледнея.
Трудно прочесть, вон сколько наросло плесени от сырости, — отвечает Джьякопо, тоже весь дрожа. — Надо бы снять…
— Тише, тише, мессер Аллигьери, как бы не рассыпались! Если бы еще немного дольше пролежали, истлели бы совсем!