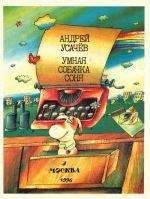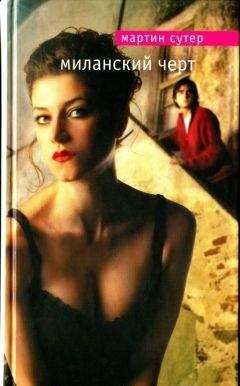Владимир Набоков - Событие
ТРОЩЕЙКИН:
Я вас слушаю.
ШЕЛЬ:
Я почел своей обязанностью явиться к вам. Мне надо сделать вам некое предупреждение.
ТРОЩЕЙКИН:
Приблизьтесь, приблизьтесь. Цып-цып-цып.
ШЕЛЬ:
Но вы не одни… Это собрание…
ТРОЩЕЙКИН:
Не обращайте внимания… Это так - мираж, фигуранты, ничто. Наконец, я сам это намалевал. Скверная картина - но безвредная.
ШЕЛЬ:
Не обманывайте меня. Вон тому господину я продал в прошлом году охотничье ружье.
ЛЮБОВЬ:
Это вам кажется. Поверьте нам! Мы знаем лучше. Мой муж написал это в очень натуральных красках. Мы одни. Можете говорить спокойно.
ШЕЛЬ:
В таком случае позвольте вам сообщить… Только что узнав, кто вернулся, я с тревогой припомнил, что нынче в полдень у меня купили пистолет системы "браунинг".
Средний занавес поднимается, голос чтицы громко заканчивает: "…и тогда лебедь воскрес". Ревшин откупоривает шампанское. Впрочем, шум оживления сразу пресекается.
ТРОЩЕЙКИН:
Барбашин купил?
ШЕЛЬ:
Нет, покупатель был господин Аршинский. Но я вижу, вы понимаете, кому предназначалось оружье.
Занавес
Действие третье
Опять мастерская. Мячи на картине дописаны. Любовь одна. Смотрит в окно. затем медленно заводит штору. На столике забытая Ревшиным с утра коробочка папирос. Закуривает. Садится. Мышь (иллюзия мыши), пользуясь тишиной, выходит из щели, и Любовь следит за ней с улыбкой; осторожно меняет положение тела, нагибаясь вперед, но вот - мышь укатилась. Слева входит Марфа.
ЛЮБОВЬ:
Тут опять мышка.
МАРФА:
А на кухне тараканы. Все одно к одному.
ЛЮБОВЬ:
Что с вами?
МАРФА:
Да что со мной может быть… Если вам больше сегодня ничего не нужно, Любовь Ивановна, я пойду.
ЛЮБОВЬ:
Куда это вы собрались?
МАРФА:
Переночую у брата, а завтра уж отпустите меня совсем на покой. Мне у вас оставаться страшно. Я старуха слабая, а у вас в доме нехорошо.
ЛЮБОВЬ:
Ну, это вы недостаточно сочно сыграли. Я вам покажу, как надо. "Уж простите меня… Я старуха слабая, кволая… Боязно мне… Дурные тут ходют…". Вот так. Это, в общем, очень обыкновенная роль… По мне, можете убираться на все четыре стороны.
МАРФА:
И уберусь, Любовь Ивановна, и уберусь. Мне с помешанными не житье.
ЛЮБОВЬ:
А вам не кажется, что это большое свинство? Могли бы хоть эту ночь остаться.
МАРФА:
Свинство? Свинств я навидалась вдосталь. Тут кавалер, там кавалер…
ЛЮБОВЬ:
Совсем не так, совсем не так. Больше дрожи и негодования. Что-нибудь с "греховодницей".
МАРФА:
Я вас боюсь, Любовь Ивановна. Вы бы доктора позвали.
ЛЮБОВЬ:
Дохтура, дохтура, а не "доктора". Нет, я вами решительно недовольна. Хотела вам дать рекомендацию: годится для роли сварливой служанки, а теперь вижу, не могу дать.
МАРФА:
И не нужно мне вашей рукомандации.
ЛЮБОВЬ:
Ну, это немножко лучше… Но теперь - будет. Прощайте.
МАРФА:
Убивцы ходют. Ночка недобрая.
ЛЮБОВЬ:
Прощайте!
МАРФА:
Ухожу, ухожу. А завтра вы мне заплатите за два последних месяца. (Уходит.)
ЛЮБОВЬ:
Онегин, я тогда моложе… я лучше, кажется… Какая мерзкая старуха! Нет, вы видели что-нибудь подобное! Ах, какая…
Справа входит Трощейкин.
ТРОЩЕЙКИН:
Люба, все кончено! Только что звонил Баумгартен: денег не будет.
ЛЮБОВЬ:
Я прошу тебя… Не волнуйся все время так. Это напряжение невыносимо.
ТРОЩЕЙКИН:
Через неделю обещает. Очень нужно! Для чего? На том свете на чаи раздавать?
ЛЮБОВЬ:
Пожалуйста, Алеша… У меня голова трещит.
ТРОЩЕЙКИН:
Да, но что делать? Что делать?
ЛЮБОВЬ:
Сейчас половина девятого. Мы через час ляжем спать. Вот и все. Я так устала от сегодняшнего кавардака, что прямо зубы стучат.
ТРОЩЕЙКИН:
Ну, это - извините. У меня будет еще один визит сегодня. Неужели ты думаешь, что я это так оставлю? Пока не буду уверен, что никто к нам ночью не ворвется, я спать не лягу - дудки.
ЛЮБОВЬ:
А я лягу. И буду спать. Вот - буду.
ТРОЩЕЙКИН:
Я только теперь чувствую, какие мы нищие, беспомощные. Жизнь как-то шла, и бедность не замечалась. Слушай, Люба. Раз все так складывается, то единственный выход - принять предложение Ревшина.
ЛЮБОВЬ:
Какое такое предложение Ревшина?
ТРОЩЕЙКИН:
Мое предложение, собственно. Видишь ли, он дает мне деньги на отъезд и все такое, а ты временно поселишься у его сестры в деревне.
ЛЮБОВЬ:
Прекрасный план.
ТРОЩЕЙКИН:
Конечно, прекрасный. Я другого разрешения вопроса не вижу. Мы завтра же отправимся, если переживем ночь.
ЛЮБОВЬ:
Алеша, посмотри мне в глаза.
ТРОЩЕЙКИН:
Оставь. Я считаю, что это нужно сделать, хотя бы на две недели. Отдохнем, очухаемся.
ЛЮБОВЬ:
Так позволь тебе сказать. Я не только никогда не поеду к ревшинской сестре, но вообще отсюда не двинусь.
ТРОЩЕЙКИН:
Люба, Люба, Люба. Не выводи меня из себя. У меня сегодня нервы плохо слушаются. Ты, очевидно, хочешь погибнуть… Боже мой, уже совсем ночь. Смотри, я никогда не замечал, что у нас ни одного фонаря перед домом нет. Посмотри, где следующий. Луна бы скорее вышла.
ЛЮБОВЬ:
Могу тебя порадовать: Марфа просила расчета. И уже ушла.
ТРОЩЕЙКИН:
Так. Так. Крысы покидают корабль. Великолепно… Я тебя на коленях умоляю, Люба: уедем завтра. Ведь это глухой ад. Ведь сама судьба нас выселяет. Хорошо, предположим, будет при нас сыщик, но нельзя же его посылать в лавку. Значит, надо завтра искать опять прислугу, как-то хлопотать, твою дуру сестру просить… Это заботы, которые я не в силах вынести при теперешнем положении. Ну, Любушка, ну, детка моя, ну, что тебе стоит. Ведь иначе Ревшин мне не даст, это же вопрос жизни, а не вопрос мещанских приличий.
ЛЮБОВЬ:
Скажи мне, ты когда-нибудь задумывался над вопросом, почему тебя не любят?
ТРОЩЕЙКИН:
Кто не любит?
ЛЮБОВЬ:
Да никто не любит: ни один черт не одолжит тебе ни копейки. А многие относятся к тебе просто с каким-то отвращением.
ТРОЩЕЙКИН:
Что за вздор. Наоборот, ты сама видела, как сегодня все заходили, интересовались, советовали…
ЛЮБОВЬ:
Не знаю… Я следила за твоим лицом, пока мама читала свою вещицу, и мне казалось, я понимаю, о чем ты думаешь и каким ты себя чувствуешь одиноким. Мне показалось, мы даже переглянулись с тобой, как когда-то, очень давно, переглядывались. А теперь мне сдается, что я ошиблась, что ты не чувствовал ничего, а только все по кругу думал, даст ли тебе Баумгартен эти гроши на бегство.
ТРОЩЕЙКИН:
Охота тебе мучить меня, Люба.
ЛЮБОВЬ:
Я не хочу тебя мучить. Я хочу поговорить хоть раз с тобой серьезно.
ТРОЩЕЙКИН:
Слава богу, а то ты как дитя относишься к опасности.
ЛЮБОВЬ:
Нет, я не об этой опасности собираюсь говорить, а вообще о нашей жизни с тобой.
ТРОЩЕЙКИН:
А - нет, это - уволь. Мне сейчас не до женских разговоров, я знаю эти разговоры, с подсчитыванием обид и подведением идиотских итогов. Меня сейчас больше интересует, почему не идет этот проклятый сыщик. Ах, Люба, да понимаешь ли ты, что мы находимся в смертельной, смертельной…
ЛЮБОВЬ:
Перестань разводить истерику! Мне за тебя стыдно. Я всегда знала, что ты трус. Я никогда не забуду, как ты стал накрываться вот этим ковриком, когда он стрелял.
ТРОЩЕЙКИН:
На этом коврике. Люба, была моя кровь. Ты забываешь это: я упал, я был тяжело ранен… Да, кровь! Вспомни, вспомни, мы его потом отдавали в чистку.
ЛЮБОВЬ:
Ты всегда был трусом. Когда мой ребенок умер, ты боялся его бедной маленькой тени и принимал на ночь валерьянку. Когда тебя хамским образом облаял какой-то брандмайор за портрет, за ошибку в мундире, ты смолчал и переделал. Когда однажды мы шли по Заводской и два каких-то гогочущих хулигана плыли сзади и разбирали меня по статям, ты притворился, что ничего не слышишь, а сам был бледен, как… как телятина.
ТРОЩЕЙКИН:
Продолжай, продолжай. Мне становится интересно! Боже мой, до чего ты груба! До чего ты груба!