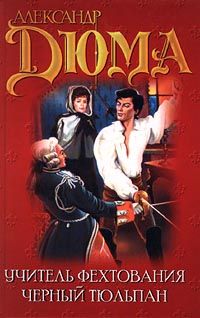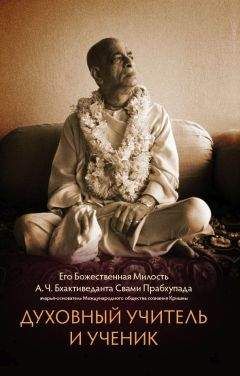Леонид Леонов - Избранное
Весть о смерти передового на Соти советского человека охолодила сердце. Собрание мгновенно обратилось в толпу, которая, ломая и опрокидывая скамьи, ринулась вслед за Мокроносовым. Надо было удостовериться, что не Пронька убит; надо было уловить злодея и тем самым доказать, кому-то, что только злая единоличная воля сразила Милованова. Часть отделилась от бегущих и, своротив у околицы, побежала за Васильем: в памяти у всех возгорелась с новой силой его сдержанная угроза на лугу. Тесной кучей, слепо тыкаясь друг в друга, толпа неслась по пнистой луговине, и опять не различить было в суматохе, кто именно вёл её к месту убийства.
— Ведь он с конём поехал… — на бегу визгнул кто-то про Милованова, но не останавливался, чтобы не затоптали.
— …значит, и коня.
— Застрелен аль так?
— В хóлову, в хóлову!
По дороге к толпе приставала вся остальная Макариха: случись пожар — некому было бы и в набат ударить. Сбоку, тяжко громыхая, неслись дворовые псы. Там дощатая лава вела через ручей; мостик прогнулся, и сваи стали клониться на сторону, едва взбежала на доски грузная людская многоножка. Некоторые, торопясь обогнать, пошли в брод, и бабы задирали подолы, а мужики обжимали ладонями голенища. Ручей взмутился, красная глинистая кровь потекла в нём. Задние, ведомые собаками, так же как и чутьём, свернули в ольховник; отчаянно замахали жёлтые верхушки ломаемых кустов. Вдруг растерянный толчок прокатился по всему людскому потоку, и задние поняли, что впереди уже наткнулись на убитого Проньку.
Тотчас над головами и зарослью взмыл скрипучий голос долгоногой Надежды Кузёмкиной:
— Вот он, вот он… смирненькой!
Каталептически вытянув руку, которую не сломать бы теперь и пятерым мужикам, она с каким-то застылым восторгом указывала в высокую траву, где голубела выгорелая, знакомая всей Соти пронькина рубаха. Толпа отступала; любопытство было напоено ужасом доотказа, а сердце уже свыклось с ледяными обручами страха. Мёртвое тело лежало лицом вниз, и вытянутая вперёд рука как бы тянулась к ржавой метёлке конского щавеля, которую так и не довелось сорвать; рубаха задралась, и вдоль пояса, влача добычу, полз некрупный, деловитый муравей. Тут же валялся и щупник, которым было совершено убийство, — железная клюшка, какими проверяют на лесозаготовках, не осталось ли дровины под снегом после свезённой поленницы. Судя по траве, никакой борьбы не было; удар метко и сильно был направлен в шею; след почернел и вздулся.
— Разойдись… а то всех привлеку! О чём хлопочете? — произнёс председатель, не сводя глаз с поверженного друга.
С серым, постаревшим лицом он решительно шагнул вперёд, но что-то хрустнуло под сапогом, и он, наклонясь, вырвал из травы раскрошенную спичечницу; в осколках перламутра, обвитых травинками, ещё тлела памятная всем блудливая радуга. Невидящими глазами он поискал в толпе.
— Побежали за ним… поди, уж вяжут! — несмело вздохнул Кузёмкин про инвалида и прибавил совсем тихо: — экой род погибает на Соти!..
Торжественно и с колен Егор приподнял за волосы голову друга и заглянул в лицо. Растерянный его взгляд обежал толпу; он разжал кулак и с невыразимой тупостью созерцал радужные осколки; сбивали его с толку противоречивые обстоятельства убийства, и сопоставить их воедино было ещё трудней, чем восстановить спичечницу инвалида.
— Кто сказал, что Пронька убит?.. — виновато спросил председатель, и тогда, осмелев, все стали подходить и всматриваться в мёртвого.
Теперь его узнавали даже с затылка. В траве лежал макарихинский завклуб, Виссарион Булавин; полуоткрытый рот его, казалось, вопил безгласно, но уже никого не оглушал этот крик. Стали вспоминать, что ещё месяц назад Пронька наголо выбрил голову, что уезжал он по другой дороге, что никогда не носил он городских ботинок. Не голубая рубаха ввела всех в заблужденье, а общее и неуверенное ожидание, что и Проньку когда-нибудь убьют; и прежде всех опасался этого сам Мокроносов. Ещё труднее было поверить, чтоб у инвалида имелись поводы умерщвлять неповинного завклуба. Но Василий самолично признался в этом на следующее утро, и не поверить ему теперь было бы преступлением по должности.
Ещё толпа не воротилась в деревню, а егоровы посланцы уже разыскали преступника на маслобойке. Спотыкаясь и чванясь от сознания исполняемого долга, они тащили Василья под руки как ушат; сам он шёл бы слишком долго, невтерпёж правосудию. Он не бился, а лишь покорно покачивался промеж рослых своих конвоиров да всё косился на рыжую свою собаку, бежавшую рядком: с некоторых пор она замещала ему изменивших друзей. Вся деревня с удивлением узнавала, как он испросил у них позволения привести себя в порядок; дрожавшими от долгой пьянки руками он расчесал пробор на голове и так жирно смазал его пахучей мазью, точно надеялся закрепить свою красу на долгие века тюремного сиденья; баночку с остатками он сунул в карман. Вместе с собакой заперли его в сарайчик, ходивший под ссыпным пунктом и повесили самый большой, какой нашёлся в Макарихе, замок.
— Отдохни, Вася… — веще сказал Мокроносов, уходя.
Красильников смеялся и, пока не померкли щели в стенах, безобидно играл с собакой; позже, единственно от праздной скорби, пришло ему в голову расчесать и собаку; это повеселило немножко его участь. Но на рассвете, пугаясь нового солнца, Василий стал биться, а собака выть.
— Отдайте… отдайте мне мои ноги! — безумствовал он, но даже и часовой не слышал, потому что за сырую одну эту ночь Василий охрип окончательно.
Через час, однако, он смирился, и, когда пришёл Мокроносов везти его в город, перламутрово и потаённо играли Васильевы глаза: осеннее утро было розово, а зелень травы ещё не утеряла своего летнего блеска. И опять не поверил Мокроносов.
— Шибко плохо твоё дело, Василий, — сказал он, теряясь в догадках. — А ведь не ты завклуба уложил! Как ты мог его щупником достать… не на табуретку же становился!
Тот что-то отвечал, беззвучно шевеля губами, а Мокроносов, склонясь, вдыхал удушливый аромат его причёски.
— Охрип он, — подсказали со стороны.
— Громче, громче кричи… себя спасёшь. В ухо мне кричи, ну!
Лицо инвалида побагровело от натуги:
— Становись… давай клюшку… попробуем.
Егор внимательно посмотрел на его изжёванные пальцы, на обуглившееся в одну ночь лицо и понял, что если и не убил, то непременно убьёт в будущем; непостижимое томление испытал он в коленях. Он так и понял, что, жертвуя собой, калекой, тем самым оберегал Василий своих неоткрытых, но сильных друзей.
— Не человек ты, а заусеница, Васька… — молвил напоследок председатель, гадливо покачивая головой. — Ну, разувай, парень, свой иконостас, — прикрикнул он. — Не на маскарад едем! — и пхнул ногой расфиксатуаренную собаку, скулившую за хозяина.
Его увезли, и ни вдова, ни друг, которых и не было, не вышли провожать в дорогу; в сущности, род погибнул гораздо раньше. Недолго помнили и об Виссарионе, — помнили, пока хоронили; даже и шрама не осталось на памяти людской. Никто, к слову, не догадывался, кого хоронят. Провожатых пришло немного, но всё это был сплочённый отряд, готовый к любому бою. Впереди всех, тотчас за приспущенным знаменем, шли гармонисты, трое, и, не умея играть грустных мелодий, старательно переиначивали на скорбь всем известную лихую песню. Скрипели колодезные журавли… и потом галки, — целое небо летучей черноты! — бесстрастно поднимались с поля, пустого, точно вывернутого наизнанку.
Его закопали, как чурку, на развилине шонохской дороги, чтоб все, кто уезжал или возвращался, видел этот печальный столб с дощечкой, а на ней кратчайшую повесть о днях макарихинского завклуба. Осенние дожди посмыли непрочную надпись, а подновить её всё недоставало рук. По весне, когда окончательно истёрлась память об этом неудавшемся предтече Аттилы, блуждал тут хозяйственный мужичок с Нерчьмы и, чтоб не пропадать столбу задаром, начертил на дощечке чёрную стрелку химическим карандашом, а под ней — тридцать две корявых буквенки: «отсоль до сотьстроя Километров шесть…»
Глава шестая
I
Нагоняло ветром воду в Соть, наплывали слухи на деревни. Первее всех набежал шепоток, будто замиренье всё-таки не состоялось, потому что воспротивился тому сам Березятов. Приговаривали, будто и не убит вовсе, а прострелена лишь тень его; сам же просидел все советские годы в погребу у шонохского старовера и, гадая по подземным звукам, ждал лишь поры, когда ему вернуться к прежнему ремеслу. Кстати припомнилось тёмное пророчество одного колченогого бродяжки, который, шагая с Волыни на Печору, вздумал навестить и тишайшую Соть. «Отрождаетсе овёс на девятые шутки, а рабёнок на девятый месец, — извещал бродяжка, почёсывая вшивый затылок под своим собачьим малахаем, и все благоговейно находили, что похожи на диковинные стручки иссохшие его пальцы. — Воротитсе сынель шолдатская на девятый год, и тоды будет больсая кровь». Ясно было, про Березятова вещал, но то ли часы у героя в подвале остановились, то ли не выспалось его побитое воинство, запоздал Березятов со своим возвращением на Соть… В страхе верит мужик и древяному скрипу, и куриному пенью, и гугнивому вранью.