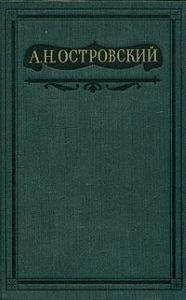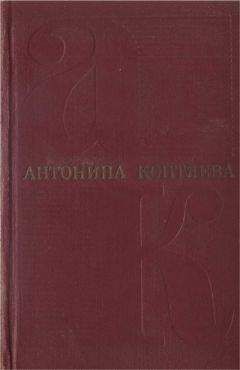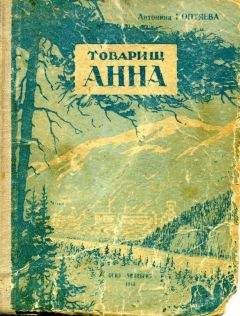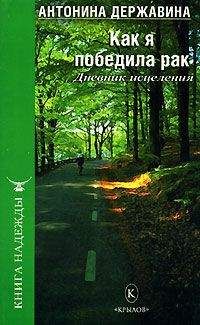Александр Островский. - Богатые невесты
Голос Белесовой: «Подождите!»
(Отходит от двери.) Ну, она, кажется, ничего, а как вы меня испугали.
Пирамидалов. Я счел своею обязанностию сегодня утром доложить подробно вашему превосходительству все, что вчера происходило, как вы сами изволили мне приказать.
Гневышов. И поспешили сюда?
Пирамидалов. Так точно, ваше превосходительство, и передал Валентине Васильевне, что вы изволите прибыть вслед за мною.
Гневышов. Ну и что же?
Пирамидалов. Я и понять не могу, ваше превосходительство…
Гневышов. Да где же вам!
Пирамидалов. Слушать меня не стали, а приказали мне сейчас же позвать к ним Цыплунова.
Гневышов. Как, Цыплунова, этого самого? Не понимаю, не понимаю.
Пирамидалов. Я говорю: «Валентина Васильевна, кого вы приглашаете? Где же у вас самолюбие! Я вас не узнаю!» Так ведь я говорил, ваше превосходительство?
Гневышов. Ну, ну, далее!
Пирамидалов. «Да он, говорю, не пойдет». – «Не ваше, говорит, дело. Прикажите ему от меня, чтоб он пришел, ну просите его, ну умоляйте его». И больше ничего разговаривать не стали и ушли от меня.
Гневышов. Вы ходили?
Пирамидалов. Ходил, ваше превосходительство.
Гневышов. Что ж он?
Пирамидалов. Ломается: «Да зачем я пойду, да с какой стати, да что мне там делать?»
Гневышов. Да придет он или нет, я вас спрашиваю.
Пирамидалов. Хотел прийти.
Гневышов. Странно, очень странно.
Пирамидалов. Я вам говорил, ваше превосходительство, что он дикий, вы мне не изволили верить.
Гневышов. О мой милый, кто ж не ошибается! Человеку свойственно ошибаться. Но я в вине – я и в ответе, я постараюсь поправить эту ошибку.
Пирамидалов. Если что нужно будет вашему превосходительству, я буду здесь в саду.
Гневышов. Да, хорошо, ступайте, я слышу шелест платья.
Пирамидалов уходит в сад. Из боковой двери выходит Белесова.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Гневышов и Белесова.
Гневышов. Здравствуй, Валентина!
Белесова. Ну, что вы? Зачем вы?
Гневышов. Мой друг, такой случай… не мог же я…
Белесова. Вы знаете?
Гневышов. Пирамидалов мне передал.
Белесова. Поймите же вы, в каком я положении, если вы способны понимать что-нибудь.
Гневышов. О мой друг, всякий может подвергнуться оскорблению, никто от этого не застрахован. Ну, представьте себе: я пошел прогуляться, и вдруг на меня из подворотни лает собака, неужели же мне этот грубый лай принять за оскорбление и обидеться! А эти глупые упреки, эта мещанская брань чем же лучше собачьего лая! И тебе, Валентина, не только обижаться, но даже и думать об этом не стоит.
Белесова. Стоит думать или не стоит, это уж мое дело. Это для меня теперь самый важный жизненный вопрос. (Задумчиво.) Но это не лай… Какая энергия, какое благородство! Я ничего подобного в жизни не видывала. И вместе какая обида, какая обида!
Гневышов. Ну, оставь же! Отнесись к этому факту с презрением, которого он заслуживает. Презрительность ко всему мелкому и вульгарному в твоей натуре, и она так мило выходит у тебя.
Белесова. Вы знаете все, все, знаете и человеческую натуру. Я себе никогда не прощу, что имела глупость вам поверить.
Гневышов. Я действительно хорошо знаю сердце человеческое, но могу иногда и ошибаться.
Белесова. Вот то-то же. Нет, в делах важных никогда не нужно слушать мудрецов и знатоков сердца человеческого, а надо следовать собственному внутреннему побуждению. В молодом сердце, как бы оно испорчено ни было, все-таки говорят еще свежие природные инстинкты. По вашим словам я думала, что Цыплунов вечно будет моим покорным рабом и что я, разумеется, ничего не обязана чувствовать к нему, кроме презрения. А вышло напротив: он меня презирает.
Гневышов. И это тебя беспокоит? Какое ты дитя!
Белесова. Беспокоит – мало сказать. Мучает меня, я вся дрожу, я не спала всю ночь. Я хочу его видеть.
Гневышов. Ну, зачем это, зачем? Ты должна выкинуть из головы всякое помышление о нем. Он человек грубый, для твоей деликатной натуры не годится; ну, значит, с ним и о нем всякие разговоры кончены, Я привез тебе деньги, сколько мог собрать. На первое время с тебя будет достаточно.
Белесова. Зачем ты привез именно нынче? Почему ты так поторопился?
Гневышов. Надо ж когда-нибудь, так не все ли равно, нынче или завтра… Я обещал, я должен.
Белесова (с горечью). Нет, неправда. Ты узнал, что я оскорблена, и хотел меня утешить. Признайся! Детей утешают игрушками, конфетами, а женщин – деньгами. Ты думал, что всякую тоску, всякое горе, всякое душевное страдание женщина забудет, как только увидит деньги. Ты думал, она огорчена, оскорблена, она плачет, бедная, словами ее теперь не утешишь, это трудно и долго, – привезу ей побольше денег, вот она и запрыгает от радости.
Гневышов. Ну, это не совсем так!
Белесова (настойчиво, со слезами). Нет, так, так!
Гневышов. Ты ко мне придираешься.
Белесова. Ах, мне хочется плакать… Подите прочь!
Гневышов. Скажи же мне наконец, что тебе нужно?
Белесова. От вас ничего. Мне нужно видеть Цыплунова.
Гневышов. Но зачем?
Белесова. Я не знаю. Мне хочется и убить его, и оправдаться перед ним, просить у него прощения.
Гневышов. Какие фантазии! Ну видишь, ты сама не знаешь, что ты хочешь.
Белесова. Не знаю, не знаю. Но я знаю только одно, что если он не снимет с меня этих упреков, этого позора, я могу дойти до отчаяния и сойти с ума.
Гневышов. Вы в ажитации, мой друг, вам надо успокоиться. Очень жаль, что вы поторопились послать за Цыплуновым; как бы это не расстроило вас еще более. Возьмите же деньги, уберите их. С этими деньгами ты можешь жить самостоятельно, не нуждаясь ни в ком. (Подает Белесовой большой конверт.)
Белесова (с болезненным отвращением). Ах! (Берет деньги и бросает их на стол.) Если 6 можно было не брать их!
Гневышов. Вы не оскорбляйтесь! Дети берут же от отцов… Оскорбляться тут нечем. Деньги вещь необходимая. Я к вам как-нибудь заеду на этой неделе. Часто я у вас бывать не могу; вчера приехала жена. Впрочем, когда она узнала от меня, что вы выходите замуж, гнев ее рассеялся, и она шлет вам целую дюжину поцелуев. (Прислушивается.) Он здесь, он здесь, я слышу его голос. Я подожду, чем кончится ваше объяснение.
Белесова. Только не здесь. Подите в сад и пошлите его ко мне, сами вы можете войти после.
Гневышов уходит. Белесова, взволнованная, ходит по комнате. Входит Цыплунов.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Белесова, Цыплунов.
Цыплунов. Что вам угодно?
Белесова. А, вы пришли, вы здесь, у меня; значит, вы признаете себя виноватым?
Цыплунов. Нисколько не признаю. Вы меня звали, и я пришел.
Белесова. Вы вчера меня оскорбили, вы думаете, что это так пройдет вам? Вы думаете, что все ваши упреки, всю вашу брань я должна принять как должное, как заслуженное и склонить голову перед вами? Нет, вы ошибаетесь. Вы не знаете моего прошедшего, вы не выслушали моих оправданий, и вы осудили, осыпали публично оскорблениями бедную, беззащитную женщину. За упреки вы услышите от меня упреки, за брань вы услышите брань.
Цыплунов. Извольте, я выслушаю.
Белесова. Вы грубый, вы дурно воспитанный человек! У кого вы учились обращаться с женщинами? Боже мой! И этот человек мог быть моим мужем! Теперь я верю вашей матери, что вы чуждались, бегали общества, это видно по всему. Нравы, приемы, обращение с женщинами порядочных людей вам совершенно незнакомы. В вас нет ни приличия, ни чувства деликатности. Каких вы женщин видели? Любопытно знать то общество, то знакомство, в котором вы усвоили себе такие изящные манеры и такую отборную фразеологию.
Цыплунов. Я с младенчества знаю одну женщину, лучше и выше которой не представит никакое общество.
Белесова. Да, это ваша матушка, об ней речи нет. Ну, а кроме ее? Кроме ее, вы видели женский пол только в прислуге, то есть горничных, нянек, кухарок; между ними вы выросли, между ними вы находитесь теперь и никак не можете подняться выше нравственного уровня этого общества. К вашей няньке, которую вы, по своей нелепой, неуклюжей и смешной страстности, конечно обожаете, вероятно ходил пьяный муж; бранил, а может, и бил ее. От частого повторения вам это казалось естественным и законным, и вы подумали, что со всякой женщиной можно так же обращаться. Теперь вы видите, каким ничтожеством считаю я вас, могу ли я обижаться вашими словами. Если я вас позвала, то затем только, чтобы уверить вас, что вчера ваша риторика не произвела того эффекта, на который вы рассчитывали, что брань ваша для меня совсем не оскорбительна, что она даже не задевает, не царапает, а только свидетельствует о вашей невоспитанности, о пошлости вашего ума и грубости сердца. Ступайте!