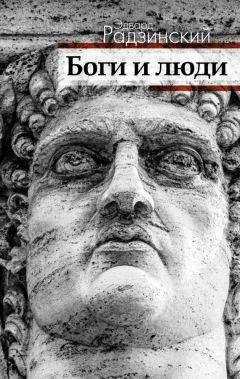Эдвард Радзинский - О себе (сборник)
Он. Значит, все это было истерическое представление?
Она. Ну, если быть точным: два представления. Твое — неудачное… Ты очень плохо сыграл за дверью грузина…
И — мое! Обалденное! Что делать, Саша, ты так и остался хреновым актером. Знаменитым, но хреновым актером. Это только в вашем театре верят, что талант, как гриб, растет со временем на пустом месте! Ха-ха-ха!
Он. Ладно, пошутили… Истеричка, я пришел взять свои кеды и кроссовки…
Она. А почему так развязно? И что это значит — «пошутили»? Это ты шутил. А я не шутила… Потому что для меня, Саша, как для древних индусов, жизнь — это «Лила», то есть божественная игра! Я все время играю, и тогда только живу… Например, подниму трубочку своего отключенного телефона и разговариваю, разговариваю… Или без телефона — вслух, сама с собой болтаю, болтаю. Первый раз, когда я поймала себя на этом, — я подумала: все, спятила! (Шепотом.) А потом поняла: нет, это началась моя «Лила» — божественная игра… Но, конечно, какая игра без зрителей! Вот почему я так обрадовалась… когда в окно увидела, как ты по двору вышагивал. Думаю, вот он идет — будущий зритель… и, может, участник моей «Лилы»? А ты, видать, это тоже почувствовал и сразу из-за двери тоже принялся играть — шпарить текстами из своей последней пьесы… Ха-ха-ха!
Он (изумленно). Не понял!
Она. Понял, все понял! Только уж очень сентиментальные тексты… Тьфу! Но я была милосердна — я подыграла тебе. Потому что уважаю любую «Лилу»! Вот так, Саша!
Он (постарался рассмеяться). А откуда ты знаешь про пьесу?
Она. Я все знаю, что происходит в вашем треклятом театре. Слежу! А чем мне еще теперь заниматься? Из театра вы меня выперли, с телевидения… тоже… (Подмигнула.) Ха-ха-ха! (Весело.) Мне очень понравилось, что ты написал пьесу про нас с тобой. Знаешь, Саша, так приятно почувствовать себя литературным персонажем. Я даже сказала себе: «Ну, мать, ты теперь у нас просто Робинзон Крузо!» Ха-ха-ха! Вот только кто осмелится сыграть меня в вашем дружном коллективе нерастущих грибов! Себя, допустим, сыграешь ты! Ну, а меня? Меня — единственную, неповторимую? Оказывается хочет твоя молодуха в развратных лисах… с накладным задом…
Он. Послушай. (Бешено.) Во-первых, у нее совершенно нормальный зад…
Она. Даже с нормальным задом — все равно не сыграет… Ха-ха-ха! Меня — не сыграет! Ха-ха-ха! (Остановилась.) Кстати, почему ты приписал в своей пьесе мой поступок себе? Я протестую! Это ведь я рассказала тебе… как я придумала отправиться к любимому в коробке от холодильника… Забыл? Ай-ай! Это случилось со мной… ну, когда по твоей милости… я оказалась в офсайде. Ха-ха-ха! И придумала влюбляться во всех, кто на тебя похож… чтобы не удавиться… Ха-ха-ха! Ну, известное дело, — дура! В голове-то балалайка! И вот к очередному любимому меня доставили в коробке от холодильника… и меня чуть не съел его пес-боксер. Ха-ха-ха! Кстати, потом к нему же я прискакала верхом на лошади. Я тогда снималась наездницей. Как он испугался! Как вы все боялись непримиримых размеров моей любви! Ха-ха-ха! Запомни: такие вещи не сможет совершить мужчина. Это удел безумной женщины… Ха-ха-ха! А все-таки подло, что ты разрешил ей — играть меня!
Он. Послушай! По-моему, ты что-то недопонимаешь! (Раздельно.) Я пришел взять тренировочные брюки и кроссовки…
Она (миролюбиво-элегантно). Кстати, а зачем тебе вдруг понадобились эти кроссовки… и эти… брюки?
Он (стараясь поддержать ее тон). Я решил снова бегать по утрам.
Она (нежно). От кого, дорогой? От меня ты уже давно убежал… А от этой, с накладной задницей, можно скрыться только на кладбище! Ха-ха-ха! Знаешь, вначале я злилась, когда читала твою пьесу… Там нет любви… Ты никогда не знал, что это такое. Поэтому ты думаешь, что любовь — это много сентиментальных слов. А любовь — это ненависть, дружок! Когда я любила — ох, как я тебя ненавидела!
… И вот тут Она — Гундарева выхватывала револьвер и стреляла в Него. И Шакуров… схватившись за грудь, падал.
Она бросается к нему: «Ну, что ты… ну, вставай. — Но Он лежит неподвижно. — Ну не надо… ну, он же деревянный… из пьесы Олби».
И тогда с диким криком Шакуров вскакивал, выхватывал у нее револьвер и в упор стрелял в Нее.
И тогда падала Она… И протягивала к нему руку, и рука у Нее была… в крови!!!
И уже Он в ужасе бросался к ней, а Она… хохоча, показывала ему красную тряпочку, которая была у Нее между пальцами.
Бесконечная Игра в Игру.
Спектакли «Она в отсутствии…» и «Я стою у ресторана…» имели успех, который… и прекратил жизнь этих двух спектаклей.
О главном режиссере
Главный режиссер театра Маяковского Андрей Гончаров поставил две мои пьесы — «Беседы с Сократом» и «Театр времен Нерона и Сенеки». Поставил в самое трудное для меня время, боролся за них, и благодаря ему я увидел премьеры. Поставил очень по-гончаровски — то есть ярко, публицистично, с замечательными актерскими работами (это было всегда в его спектаклях. Я уверен, что и он сам — с его барственным лицом и обликом вельможи XIX века — мог быть блестящим актером).
У него был громовой голос. И от собственного крика он очень возбуждался. Как и привыкшие к этому крику актеры… Этот голос был слышен даже на улице. И если, войдя театр, вы не слышали громоподобных раскатов, значит, репетировал другой… И я благодарен ему за успех — и «Сократа», и «Нерона».
Но камерные пьесы про любовь были ему неинтересны.
И потому ставить эти пьесы он пригласил режиссера Владимира Портнова.
Когда главный режиссер (допустим, все тот же Андрей Гончаров) приглашает очередного режиссера (того же Портнова), он искренне хочет, чтобы тот имел очень большой успех. Но если этот успех состоится и будет вправду очень большим, он начинает… огорчаться. И чем больше успех, тем больше огорчение. И это закономерно. Потому что, повторюсь, главный режиссер в театре — это муж, который очень не любит, когда жена-труппа начинает увлекаться другим.
… И Гончаров не выдержал — на пике успеха снял оба спектакля. И я его за это тоже люблю. Ибо — это часть Театра, часть божественной «Лилы».
Все эти годы я сам выбирал театр — и театры, слава Богу, отвечали мне взаимностью. Проблема была в разрешении.
Но с этой пьесой все было наоборот. Впервые ее с легкостью разрешили… после чего… ее никто не захотел ставить!
Пьесу «Старая актриса на роль жены Достоевского» я решил прочесть Эфросу. Тогда по Москве уже ходили слухи, будто ему предложили Театр на Таганке, и он согласился.
Даже я — человек, далекий от общественной жизни, более того, эгоистически занятый только своими пьесами, понял, что этого делать ему ни в коем случае нельзя.
… И я пришел к нему. Сначала мы поговорили о пьесе. Там был персонаж, который живет под диваном. И он очень забавно рассказал, как это надо поставить. И даже предложил мне поговорить с Олей (Яковлевой).
— Она могла бы замечательно сыграть вашу старую актрису.
Когда я спросил его про «Таганку», он сказал, что это слухи… но вопросительно посмотрел на меня.
Он ждал продолжения разговора.
Я сказал:
— Дай Бог, чтобы это были слухи… Потому что этого делать нельзя…
Он вмиг потерял ко мне интерес. Он не слушал.
Я понял — он решил.
Но с Олей я поговорил.
Я позвонил ей и только успел сказать: «Я написал пьесу про старую актрису…» — она тотчас прервала. Столь знакомый нежный ее голос стал ледяным:
— Это как же? Значит, другие будут играть твои пьесы про любовь, а я старуху? Не рано ли мне?
Звонил я ей, уже понимая, что Эфросу сейчас не до моей пьесы. Он был назначен главным режиссером «Таганки».
Почему решились на это власти? Думаю, они верили, что его спектакли сотрут воспоминания о ненавистном невозвращенце Любимове, сотрут воспоминания о той старой, бунтующей «Таганке».
Почему решился Эфрос? Все потому же — не мог не работать. Мечтал о своем театре. Чувствовал, что силы уходят, и надо спешить.
И еще верил, что сохранит традиции «Таганки», не даст ее актерам попусту тратить время без спектаклей. Верил, что вновь сделает театр лидером.
К тому же работать ему в Театре на Бронной стало невозможно. Отсутствие единой власти Режиссера в репертуарном театре — конец театра. Труппа была развращена восемнадцатилетним присутствием двух главных режиссеров — главного официально — то есть Дунаева, и главного фактически, главного по искусству, то есть Эфроса. И труппа научилась извлекать выгоду из этого скрытого противостояния двоих, чтобы потом начать поедать их обоих. Шли бесконечные собрания, выяснение отношений, театр разбился на группы. В результате Дунаеву пришлось уйти в театр «Эрмитаж», и он вскоре умер. Эфросу предложили «Таганку», и он умрет ненамного позднее.