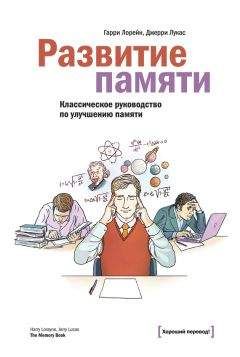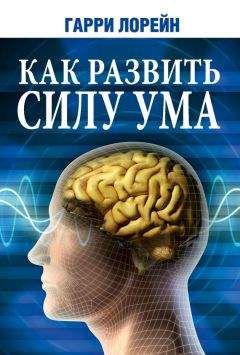Лорейн Хэнсберри - Плакат в окне Сиднея Брустайна
Сидней (поет).
У милой локоны вьются, вьются,
Глазками так и стреляет…
(Корчится от боли, едва выдавливая слова.)
Девчонка что надо, лучше не надо,
Но из тех, что гуляет!
Глория. Здорово болит, да? (Задумывается на секунду, затем идет к холодильнику, достает пакет молока.)
Сидней. Ничего у меня не болит!
(Снова затягивает, не вставая.)
У милой локоны вьются, вьются…
(Садится.)
Нет, не эту!
(Запрокидывает голову, как пес, воющий на луну, и запевает).
Зачем, зачем я так тоскую,
И сердце от тоски своей
В темницу запер золотую
С замком серебряным на ней.
Глория (подает стакан). Перестань, Сид. Ты же не пьян. Выпей вот лучше.
Сидней (думая, что это виски, пьет и плюется).
Ты помнишь тот чудесный вечер,
Когда, прижав тебя к груди…
Глория. В чем дело, Сид? Что случилось?
Сидней (открывая глаза). Неужели и ты не заметила грехопадения человека?
Глория. Ничего не понимаю.
Сидней. Эти усилия, эти ночные бдения, эта — прости за неудачное слово — эта (цедит сквозь зубы) страсть… Чего ради? Ради какого- то подонка на службе у сильных мира сего! (Беспечно.) А, не все ли равно! Люди вполне довольны собой и другими, так что оставь их в покое. Никого не трогать — вот и вся мудрость! (Подходит к двери, открывает ее и кричит.) Эй, Гермес, иди сюда, я готов перебраться через Стикс. (Поворачивается к Глории, строит гримасу.) Я отправляюсь к дьяволу, ясно? (Звонко хлопает себя по ляжкам, пародируя «черный» юмор.)
Глория. Тебе нужно лежать. Где Айрис?
Сидней. Кто, Айрис? Моя жена? Черт ее знает! (Бродит по комнате.) Все равно она не из всемогущих богинь. Что-то вроде «Пятницы в женском обличье при громовержце Зевсе», как пишут в «Таймс». Глянь-ка, кто я такой? (Забравшись на диван, принимает позу, в какой изображают Зевса.) Ну, говори, кто? Хочешь, подскажу: не Аполлон. И вообще даже не бог. (Подражая Джимми Дюранту.) Не обращайте пока внимания на мою величественную внешность, но загляните мне в глаза, и вы ясно увидите, что я смертен. (Снова валится на диван.) Вот кто я — типичный Современный Человек, я корчусь от рези в желудке, в уголке глаза застыла слезинка, в руке стакан спиртного, которым тщетно накачиваешься, чтобы заглушить боль… а в голове ни малейшего представления о том, что происходит. (Пьет, садится на диван.) А моя жена сбежала ловить молнии для Зевса. Потому что он неплохо платит и сводит с молодыми и растущими богами и вообще обещает кучу всяких вещей.
Дэвид (входит, холодно). Я, кажется, попал в самый патетический момент.
Сидней. Дэвид, дорогуша! (Отшвыривает бутылку.) Ты единственный из моих знакомых, кто не боится тьмы. Выпей!
Дэвид. Ты пьян и глуп. Я пойду, у меня гость. (Хочет идти.)
Сидней. Давай, веди ее… прости… веди его сюда, устроим театр абсурда.
Дэвид. Благодарю, вы его, кажется, уже устроили и без меня.
Сидней (хватая его за рукав). Всякая суета, спешка — все дребедень, правда? А мир — голая пустыня, где ни ветерка, ни дождя. Где ничего не происходит. Разве что мы случайно появляемся и в один прекрасный день исчезаем снова… Твои пьесы ведь об этом?
Дэвид. Думаю, что да.
Сидней. Хотя старик Вильям сказал об этом лучше: «Это повесть, которую пересказал дурак: в ней много слов и страсти, но нет лишь смысла». У Вильяма все лучше.
Дэвид. А я и не спорю. Что с тобой произошло?
Сидней. Ничего… Все… Я тоже не буду больше спорить с тобой, Дэвид. Ты прав, прав во всем.
Дэвид. Наконец-то начинаешь что-то понимать.
Сидней. Да, и начинаю наконец смеяться над чудовищной абсурдностью. Абсурд — единственное убежище, единственная гавань, откуда можно бесстрастно наблюдать за миром и смеяться холодным бесцветным смехом. (Выделывает затейливое эстрадное антраша и застывает в чудовищно-нелепой позе. Поет.)
Мы заблудились там, средь звезд!
(Обернувшись, Глории, словно только что увидев ее.) Глория!
Он протягивает к ней руки. Она подходит, и они обнимаются. Видно, что они искренне привязаны друг к другу. Он прижимает ее к себе в какой- то горестной безысходности и, должно быть, нечаянно делает ей больно.
Что с тобой?
Глория (скрывая смущение). Ушиблась немножко. Пустяки! Тебе нехорошо?
Сидней зажимает рот и не спеша шествует к ванной, но затем, отбросив достоинство, вбегает туда, захлопывает за собой дверь. Лишь после этого Глория словно бы замечает присутствие Дэвида.
Вы, наверно…
Дэвид. Дэвид Реджин. Привет!
Глория (слышала о нем). А, вы живете наверху, да? Привет! А я…
Дэвид. Глория. Вы сестра Айрис, которая… (подчеркнуто) много разъезжает. (Видя, как она реагирует на его интонацию.) Не смущайтесь. Я практически живу здесь, у Сиднея и Айрис, почти член семьи — какие уж тут секреты? И вообще меня интересуют только мужчины, не волнуйтесь!
Глория. Вы, я вижу, не скупитесь на чужие секреты.
Дэвид (безмятежно). Но ведь испокон веков повелось, что только писателям и шлюхам доступна истина.
Глория (неприятно поражена, резко поворачивается, едва сдерживая ярость). Ну-ну, выбирайте выражения… И вообще вы мне не нравитесь.
Дэвид. Извините. Я не думал, что вы обидитесь.
Глория. Вы, кажется, собирались уйти?
Дэвид. Я же извинился. А я никогда не прошу прощения. У вас попросил… потому что уважаю вас.
Глория. Я еще раз спрашиваю: вы, кажется, собирались уйти? Дэвид. Сейчас уйду. Успокойтесь. Дело в том, что сейчас я пишу о… ну, о такой, как вы. Я обнажаю лицемерие…
Глория. Послушай, мальчик. (Неожиданно низким, грудным голосом.) Я незнакома с тобой, но таких, как ты, знаю как облупленных. И я знаю, что ты скажешь, потому что об этом уже тысячу раз говорили и писали. Я такого могла бы наплести, и ты бы поверил и записал карандашиком, будто глубокую древнюю мудрость. Но сейчас я не на работе. Проваливай! (Поднимаясь с места, морщится и хватается за бок.)
Дэвид. У вас что-то болит?
Глория (превозмогая боль). Ну будьте же порядочным человеком… если сумеете… и уходите, уходите, пожалуйста.
Дэвид (пристально глядя на нее). Вы и в самом деле… недовольны своей жизнью?
Глория (запрокинула голову, закрыла глаза). Ох, господи, эти идиотские вопросы!
Дэвид. Может, вам что-нибудь нужно?
Глория. Уйдите!
Дэвид уходит. Снова появляется Сидней, тщетно пытаясь выглядеть трезвым, голова его и рубашка облиты водой. Неся в одной руке ботинок, он подходит к Глории, стоящей у бара.
Сидней (взяв бутылку). Выпьем? Прости, я все забываю… тебе надо следить за внешностью — упругая кожа и все такое.
Глория. Ерунда… Я начинаю входить во вкус. (Похлопывая себя по щекам и подбородку.) Пусть себе дрябнет! (В упор глядя на него, тихо.) Сид, я завязала, навсегда, слышишь?
Сидней (меняя тему). Ты где… ушиблась?
Глория. Я не ушиблась. Это следы одного приятного вечера, проведенного с двухметровым психом. Знаешь, у меня, кажется, особое пред… пред… забыла слова…
Сидней. Предрасположение?
Глория. Вот-вот, предрасположение к психам и полицейским. Просто поразительно! Девчонки даже дразнят меня. А этот последний… Я думала, он убьет меня… (Оглядывает комнату.) Когда придет Айрис? Наверно, много работы, да? В квартире разгром!
Сидней. Придет.
Глория (улыбаясь). Сидней, погляди-ка! (Радостно поднимает рюмку.) Виски! Я снова становлюсь человеком. Все успокоительные снадобья— к чертям. (Строит смешную гримасу и чокается с Сиднеем.) Я на прощание девичник устроила. Адиос, мучачас! Я выхожу замуж! Только сначала скажу ему все. Иначе я не хочу. Некоторые девчонки пробовали скрыть. Где там. Все равно кого-нибудь встретишь… Чего только ни придумывали наши девчонки — ничего не выходит. Мы как-нибудь сядем рядом, и я скажу… (Она говорит мерно и слишком уверенно — чтобы заглушить терзающий ее страх; рассказ ее отрепетирован до последнего слова, потому что она знает, что ей не поверят, и в голосе звучит убежденность, которой нет в глазах.) Я жила в этой дыре, в Тренерсвилле, и была девятнадцатилетней глупышкой, когда познакомилась с этим ничтожеством. Уставился он на мою мордашку и говорит: «Слушай, котенок, ты же просто клад!.. Женщины-вамп уже не в моде, сейчас подавай чисто американский тип, чтобы кровь с молоком… Как раз таких, как ты! Едем, большие дела будешь делать!» И верно. Только никто не сказал, что это за дела. А уже после начинаешь подводить всякие теории, чтобы перед самой собой оправдаться. Во-первых, наша профессия стара, как мир. (Они звонко чокаются и смеются.) Во-вторых… (прижав руку к груди, словно держа ответ перед богом и нацией) служишь обществу. (Чокаются снова.) И, в-третьих, настоящие проститутки не мы, а другие… чаще всего мужние жены и служащие девицы. (Оба смеются от удовольствия.) Так мы друг друга утешаем, когда на душе тошно. А тошно — ох, милый! — бывает так часто! Сами этому не верим, а все-таки как-го легче становится.