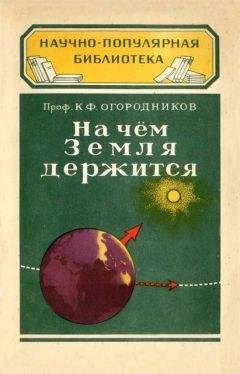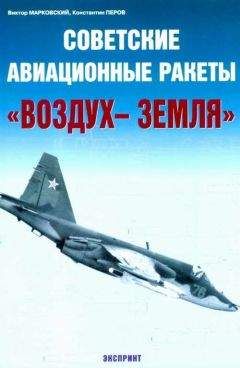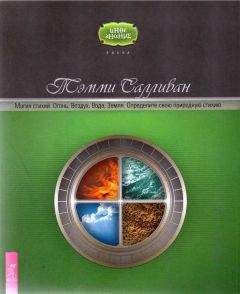Владимир Волков - Русская рать: испытание смутой. Мятежи и битвы начала XVII столетия
Таким образом, летом – в начале осени 1606 года восставшие одержали победы над правительственными войсками под Ельцом и Кромами, потерпели неудачу в столкновении в устье реки Угры. Затем им удалось взять реванш в бою на реке Лопасне, где был разбит воевода Владимир Васильевич Кольцов-Мосальский. Воспользовавшись этим успехом, «воры» вышли на ближние подступы к Москве.
Последняя попытка остановить победное шествие мятежных полчищ была предпринята на реке Пахре[54]. Поначалу царским воеводам сопутствовал успех. Возможно, потому, что здесь впервые во главе армии был поставлен девятнадцатилетний князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, обладавший феноменальным полководческим талантом. В товарищи (помощники) ему определили дядю по матери Бориса Петровича Татева и Артемия Васильевича Измайлова, воевод опытных и обстрелянных. К войску Скопина присоединились и остатки отряда В. В. Кольцова-Мосальского. Противник явно превосходил небольшую рать Скопина и атаковал его, но на этот раз был разбит.
После жаркого боя армии Болотникова с царским войском мятежники были остановлены и вынуждены уйти к Серпухову[55]. Однако победное для Скопина дело на Пахре не могло изменить неблагоприятную для Василия Шуйского ситуацию на этом театре военных действий. С юга подходила новая, более многочисленная, повстанческая армия. Вел ее искушенный в военном деле «храброборец и большей промысленик атаман казачей» Истома Пашков. К этому времени он успел соединиться с рязанским войском Григория Федоровича Сумбулова и Прокофия Петровича Ляпунова. Перейдя через Оку, они овладели важной крепостью Коломной – южными воротами Москвы. Взяли ее мятежные воеводы уговорами, обещав не разорять коломничей. Но слово свое не сдержали, разграбив богатый город.
Благоприятное для Василия Шуйского впечатление от успешного для его воевод исхода боя на Пахре оказалось стертым. Новые повстанческие отряды развернули наступление к царствующему граду Москве[56]. Встревоженный действиями мятежников царь направил против них армию под командованием Федора Ивановича Мстиславского, Ивана Михайловича Воротынского и своего брата Дмитрия Ивановича Шуйского. К ним присоединилось войско Скопина, незадолго до этого хорошо показавшее себя в боевых действиях на реке Пахре. Но на сей раз прихотливое военное счастье оказалось на стороне противника. 25 октября 1606 года в 50 верстах от столицы, у села Троицкого, произошло большое сражение закончившееся поражением московских воевод. Взятых в плен 9 тыс. простых ратников Пашков приказал наказать кнутом и распустил по домам, а знатных пленников отправил в Путивль[57]. 28 октября 1606 года войска Пашкова подошли к Москве, куда вскоре прибыл и Болотников. Все – происхождение, опыт, заслуги – было на стороне Истомы. Но эти качества перевесила предъявленная его конкурентом грамота от самборского самозванца. Невзирая на недовольство Пашкова, Болотников принял на себя главное командование обеими повстанческими ратями. Численность объединившейся под его началом армии составляла около 30 тыс. человек[58].
Лисснер Э. Э. Восстание Болотникова.
Началась осада Москвы ворами. Основные позиции мятежников находились у села Коломенского и у деревни Заборье (у Серпуховских ворот), а оставшийся у Пашкова отряд отошел к Николо-Угрешскому монастырю[59]. Разобравшись с командованием, Болотников начал активные действия у стен столицы. 26 ноября 1606 года, в Юрьев день, его отряды попытались ворваться в Москву со стороны Тонной слободы, но были отбиты с большим уроном. На самом опасном участке обороны у Серпуховских ворот стояли войска Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, особо отличившегося в день устроенного бунтовщиками приступа.
Узнав об одержанном под Москвой первом успехе, патриарх Гермоген рассылает по городам свои знаменитые грамоты. Они носят характер агитационных воззваний, призывают верных к вооруженному отпору восставшим («ворам»), зовут их стать под знамена Шуйского и разъясняют, что крестоцелование «царю Димитрию» – измена законному царю, что истинный царевич Дмитрий мертв, а мощи его перенесены в Москву. Святитель достаточно подробно рассказывает о произошедшем сражении и его итогах. По его словам, болотниковцы («злые и суровые, бесом подстрекаемые на свои души»), «забыв Бога, пришли от слободы Тонной яко за поприще (версту – В. В.). Московская же Богом собранная рать, видя бесстудный их приход, положа упование на Бога и призывая в помощь великомученика Христова Георгия, и вооружась каждый ратным оружием, опернатившись яко непоборимые орлы в шлем спасения, ополчась по достоянию и устремились на них, проклятых злых губителей; поймав елико надобно живых всяких многих воров прислали к государю царю, а тех всех без остатка побили»[60].
Стычки на подступах к городу продолжались и в последующие дни. Об этом сохранилась краткая запись в разрядной книге, уточняющая место, где они происходили: «И с ворами бои были ежеденные под Даниловским и за Яузою»[61].
Осада столицы воровской армией Болотникова, начавшаяся в конце октября 1606 года, длилась более месяца – до 2 декабря того же года. Это был период наивысшего подъема одного из самых кровавых в истории России восстаний. Оно охватило огромную территорию – под контролем мятежников находилось тогда более 70 городов юга и центра России. В движении против царя Василия приняли участие не только Северская земля и города «от Поля», калужские, тульские и рязанские уезды. Волнения охватили Смоленскую землю, юго-восточные окраины государства – Шацк, Темников, Кадом, Елатьму, Алатырь, Арзамас, муромские места. Тревожной стала ситуация в Казанской земле и Астрахани.
В критический момент борьбы московские власти проявили максимум решимости и организованности, тогда как действия их противников оказались неэффективными. Понимая, что имеют дело со своими заклятыми врагами, Василий Шуйский и поддержавший его патриарх Гермоген сумели убедить москвичей в неизбежности жестокой мести за свержение Лжедмитрия I. Решимости столичного посада стоять до конца против мятежной рати не смогли поколебать ни проникающие в город вражеские лазутчики, ни распространяемые восставшими прокламации – «воровские листы», как называл их патриарх Гермоген[62]. Агитационные мероприятия болотниковцев, стремившихся шире раздуть пламя бунта, упоминается также в одной из грамот ростовского митрополита Филарета: «А стоят те воры под Москвою, в Коломенском и пишут к Москве проклятые свои листы, и велят боярским холопам побивати своих бояр, и жены их и вотчины и поместья им сулят, и шпыням и безыменником вором велят гостей и всех торговых людей побивати и животы их грабити, и призывают их воров к себе и хотят им давати боярство, и воеводство, и околничество»[63].
Посадские люди, участвовавшие в начавшихся в повстанческом лагере у села Коломенского переговорах, также говорили с мятежниками твердо и убедительно. На все утверждения Болотникова о том, что он видел в Польше «царя Димитрия» москвичи отвечали: «Это несомненно другой, мы того Димитрия убили»[64]. Подобная уверенность не могла не произвести определенного впечатления на соратников Болотникова, особенно из числа рязанских и тульских служилых людей. Выяснилось, что те, кто отказался о присяги царю Василию, веря в спасение «царя Димитрия», были жестоко обмануты. Не все, но многие в воровском стане заколебались. И до того совсем не монолитное антиправительственное движение стало раскалываться. Обманутые Шаховским и Болотниковым служилые люди начали переходить на службу законной власти.
Воспользовавшись установившейся на период переговоров мирной передышкой, русское правительство стало спешно собирать войска. Чтобы расчистить дорогу к уездам, откуда могли прибыть подкрепления, на запад, к Можайску, выступило войско князя Данилы Ивановича Мезецкого и Ивана Никитича Ржевского. На север повел государевы полки окольничий Иван Федорович Крюк-Колычев. Очистив западные и северные пригороды Москвы, они обеспечили снабжение города, а главное – своевременное прибытие верных войск. В столицу прошли спешно вызванные дворянские ополчения из Смоленска, Дорогобужа, Серпейска, Белой, Вязьмы, Твери, Новгорода и даже из Двинской земли и Холмогор. Сосредоточив в городе значительное войско, воеводы Василия Шуйского стали готовиться к решающей схватке с врагом, в лагере которого уже не было даже иллюзии единства. Армия Шуйского росла, армия Болотникова слабела – 15 ноября 1606 года на сторону московского царя перешли окончательно потерявшие веру в миф о спасении «царя Димитрия» дворянские отряды Прокопия Ляпунова и Григория Сумбулова.
Решающее сражение под Москвой началось 30 ноября. Длившаяся с перерывами в течение трех дней упорная битва завершилась лишь 2 декабря. Ее итогом стал разгром главных сил повстанческой армии. Решающую роль в поражении мятежников сыграли два фактора: во-первых, недюжинное полководческое дарование молодого московского воеводы Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, во-вторых, переход на сторону правительственных войск отряда одного из видных вождей продолжающегося мятежа – Истомы Пашкова.