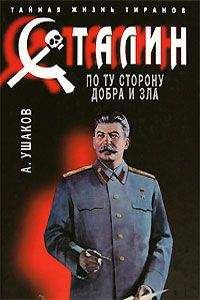Александр Никонов - Непридуманная история Второй мировой
Сознание шизофренически раздвоено: с одной стороны, «у нас зря не сажают», с другой — твердое знание, что лишнего болтать нельзя, за неосторожное слово можно навсегда сгинуть в лагерях. А в газетах пишут, что в гитлеровской Германии происходит то же самое — людей хватают ночью и куда-то увозят. И больше их никто никогда не видит. Что творится в этом мире?..
В условиях Большого террора война — не самый плохой вариант смерти. Во всяком случае осмысленный. Лучше погибнуть героем за большое светлое дело, чем безвестно сгинуть во тьме сталинского застенка врагом народа. Это может не всеми осознаваться напрямую, но где-то на задворках сознания присутствует. Потому что иного выбора система не оставляет: кругом враги, а война неизбежна. При этом война всячески осветляется и героизируется. Сам Сталин в письме главе Союза писателей СССР Максиму Горькому разъяснял, как нужно писателям освещать войну. Партия, писал Сталин, против произведений, «рисующих «ужасы» войны и внушающих отвращение ко всякой войне. мы ведь не против всякой войны. Мы против империалистической войны как войны контрреволюционной. Но мы за освободительную, антиимпериалистическую, революционную войну.»
Яркой иллюстрацией всего сказанного является судьба поэта Ярослава Смелякова, который когда-то профессионально воспевал хорошую войну, несущую свободу всей планете: «Мы радостным путем побед по всей земле пройдем…» А потом Смеляков попал под каток. И описал уже другую сторону советской действительности, менее радостную, чем война:
Когда встречаются этапы
Вдоль по дороге снеговой,
Овчарки рвутся с жарким храпом
И злее бегает конвой.
Мы лезем прямо, словно танки,
Неотвратимо, будто рок.
На нас — бушлаты и ушанки,
Уже прошедшие свой срок.
И на ходу колонне встречной,
Идущей в свой тюремный дом,
Один вопрос, тот самый, вечный,
Сорвавши голос, задаем.
Он прозвучал нестройным гулом
В краю морозной синевы:
«Кто из Смоленска? Кто из Тулы?
Кто из Орла? Кто из Москвы?»
И слышим выкрик деревенский,
И ловим отклик городской,
Что есть и тульский, и смоленский,
Есть из поселка под Москвой.
И вроде счастья выше нету —
Сквозь индевелые штыки
Услышать хриплые ответы,
Что есть и будут земляки.
Шагай, этап, быстрее, шибко,
забыв о собственном конце,
С полублаженною улыбкой
На успокоенном лице.
Писатель Александр Лаврин — автор огромного исследования об отношении разных человеческих культур к смерти, полагает, что именно этот показатель определяет характер общества:
— Когда к власти пришли большевики, полагающие, что имеют монополию на мысли граждан, они решили подчинить себе и смерть, перевести ее из области онтологической в область социальную. Эта операция прошла в три этапа — обобществление (коллективизация) смерти, героизация (романтизация) смерти и, наконец, бюрократизация (отчуждение) смерти. Человек, лишенный права на частную собственность, автоматически лишается права и на частную смерть. Смерть становится общественным достоянием. И нагружается великим идеологическим смыслом. Совершенно невозможно представить при советской власти создание и публикацию произведения наподобие «Смерти Ивана Ильича». Потому что человек, задумывающийся над смыслом жизни и смерти, неизбежно ставит перед собой «проклятые вопросы» бытия, которые так отчаянно не состыковываются с паровозами марксистских доктрин.
Каждый отдельный человек умирать не хочет — это простая биология. И эту биологию большевики ломали при помощи идеологии, внушая людям идею жертвенности. Причем советская идеология оперировала двумя типами жертвенности — вынужденной и добровольной. Вынужденная — это когда человека берут и расстреливают как врага народа, объясняя расстрел «высшими государственными интересами». Добровольная — когда человек сам бросается на амбразуру…
Кстати, об амбразуре. Выше я приводил стихи одного из советских поэтов: «Славлю солдат революции…Падающих на пулемет!» Надо сказать, эта тема — про падение на пулемет — отчего-то была весьма популярной в некрофильском СССР. Писатель и философ Александр Зиновьев когда-то по молодости писал стихи. Вот одна строчка из его юношеских виршей: «Под пулемет подставим тело». Позже, анализируя это, он отмечал: «Идея подставить тело под пулемет родилась в Гражданскую войну и была для нас привычным элементом коммунистического воспитания. А утверждение о том, что здание нового общества строилось на костях народа, было общим местом в разговорах в тех кругах, в которых я жил. Но оно не воспринималось как обличение неких язв коммунизма. Более того, оно воспринималось, как готовность народа лечь костьми за коммунизм…»
Вот откуда все эти многочисленные александры-матросовы времен Отечественной, которые бросались грудью на амбразуры. Осуществление литературного штампа.
— Как известно, Александра Матросова посмертно наградили званием Героя Советского Союза, — продолжает Лаврин. — Спустя некоторое время еще несколько человек повторили его подвиг и были посмертно представлены к наградам различной степени. А потом нашелся солдат, который не стал закрывать амбразуру телом, он ухитрился подобраться к дзоту и перекрыть смотровую щель скаткой. И остался жив. Армейское начальство хотело наградить парня. Но Сталин, прочитав про обстоятельства дела, написал резолюцию: «Отказать. Пусть закрывает грудью, как все». Если это и анекдот, то весьма симптоматичный! Героизация смерти требовала публичных, растиражированных жертвоприношений. В советских людях психология самоубийц воспитывалась еще с Гражданской. Вспомните:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это.
Между прочим, постоянная готовность к гибели — это характерная черта психологии самурая, политического террориста, камикадзе, шахида. А человек, который ценит свою жизнь дешевле своих идей, чужие жизни с еще большей легкостью приносит в жертву… То же и с вынужденными жертвами. Массовый террор сталинских времен был окрашен в патетические тона — вспомните знаменитые обвинительные речи прокуроров Крыленко и Вышинского. Поэзия! А когда в сентябре 1950 г. в здании Дома офицеров слушалось так называемое «ленинградское дело», то сразу после оглашения приговора на всех обвиняемых охранники набросили белые саваны, затем взвалили бедолаг на плечи и понесли к выходу через весь зал. Это был спектакль.
Так считает Лаврин. А доктор филологических наук Мария Шарова, изучив мутный поток предвоенной советской литературы, следующим образом описывает самоощущение и миропонимание тогдашнего гомо советикус: «Борьба за революционное будущее человечества — это лучшее, что может случиться с советским человеком… Поскольку война носит непрекращающийся характер, все члены общества или являются солдатами или готовятся в солдаты». И далее в качестве одного из многочисленных примеров приводит отрывочек из сталинского романа, где герой говорит героине: «Ах, да вы не пережили Гражданской войны. Это было счастье, Ольга Ованесовна! Все чувства, все поступки сверялись на слух с тем, что происходило на фронте. Мы родились и выросли в войне. Наш быт все время был войной, неутихающей, жестокой. У нас умеют садиться в поезда и уезжать за тысячу верст, не заглянув домой. Мы способны воевать двадцать лет (опять эти мистические двадцать лет! — А.Н.), мы бойцы по исторической судьбе.»
Шарова, конечно, права — советскому человеку действительно до войны и «до смерти — четыре шага».
«И он погиб, судьбу приемля, Как подобает…» — вот стихотворно выраженная доминанта эпохи (стихи Уткина).
«И если я домой вернуся целым, Когда переживу двадцатый бой, Я хорошенько высплюсь первым делом, Потом опять пойду на фронт. Любой» — вот постоянно выраженная готовность воевать до тех пор, пока, наконец, не ухлопают (стихи Копштейна).
Просто красные зомби какие-то!..
Глава 3
Куда исчезла готовность к войне?
«…спор шел не между фашизмом и всем остальным человечеством, а между двумя фашистскими системами. Фашизм был побежден, фашизм победил».
Юрий НагибинРанее мы очень много внимания уделили схожести двух диктаторов — Гитлера и Сталина. Пора пришла присмотреться к различиям…
Наши бравые историки в погонах и примкнувшие к ним антирезунисты цивильного толка говорят, что Сталин был к войне не готов, а Гитлер — готов. В этом и есть главное различие.