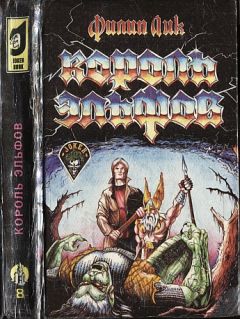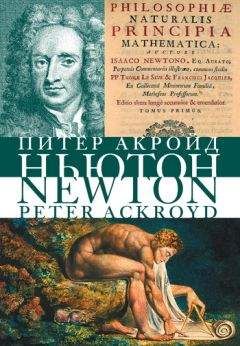Валентин Фалин - Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов
В апреле 1939 года Гитлер впервые привел сводные данные о жертвах, коих к тому времени стоило свержение в Испании республики, – погибло более 775 тысяч человек[36]. Есть оценки и помрачнее – свыше 1 миллиона. Как бы то ни было, насилие, захлестнувшее Пиренейский полуостров, как в капле воды отразило будущую общеевропейскую трагедию. О каком «невмешательстве» можно было вести речь, когда человечество уже погружалось в войну во всей ее жестокой очевидности?
Так, между прочим, невзначай, из-за политической неуклюжести или лености и рухнуло версальское сооружение, хотя его архитекторы вроде бы предусмотрели контрфорсы и прочие хитрости почти на все мыслимые и немыслимые ситуации. Не вдруг и не враз. Вернемся на несколько лет назад.
Гитлер занял кресло рейхсканцлера 30 января 1933 года благодаря благоволению президента Гинденбурга, мощных финансово-промышленных групп (не только немецких) и голосам консервативно-национал-социалистского альянса в рейхстаге. Состав первого кабинета (всего-то три министра – представителя НСДАП), внешнеполитическая и военная программы излучали вовне преемственность: в главном все как прежде, только лучше.
В своей «Второй книге», то есть в 1928 году, Гитлер выделил значение, особенно на начальном этапе, правильной внешнеполитической тактики: нужен камуфляж, облегчающий «воссоздание германской армии. Только после этого жизненные потребности нашего народа получат своего практического выразителя»[37].
В 1933–1939 годах Германия израсходовала на перевооружение больше ресурсов, чем Англия, Франция и США, вместе взятые. А в 1933 году Берлин выдал не меньше этих трех держав авансов, что не замутит воды, что в служении миру он видит первейшую свою заботу и что в мыслях не держит ревизии границ в ущерб чужим народам.
В циркулярной ноте статс-секретаря МИД Германии Б. фон Бюлова (30 января 1933 года) отмечалось, что также на будущее Германия «не поставит свою позицию в отношении заграницы в зависимость от максималистских заявок того или иного правительства»[38]. Внешняя политика поднималась над идеологиями, что, по мнению авторов, могло настроить Москву отстраненней воспринимать оголтелый нацистский антикоммунизм на фоне инсинуаций новых германских правителей в адрес Франции, шедшей за главного врага[39].
У руководства СССР, помимо циркуляра Бюлова, имелось в избытке материалов для раздумий, не оставлявших места самообману. В мае – июне 1933 года советская сторона повела дело к прекращению военно-технического сотрудничества между Красной армией и рейхсвером[40]. Целесообразность сохранения этих связей, завязанных сторонами в начале 20-х годов, ставилась под вопрос еще в 1928–1929 годах. Полпред в Германии Н. Н. Крестинский, подчеркивавший важность данной сферы для общего тонуса межгосударственных отношений, и советские военные, упиравшие на свои специфические интересы, каждый раз добивались пролонгации того, что на тот период было достигнуто.
На встрече с генералом А. фон Бокельбергом 8 мая 1933 года К. Ворошилов, А. Егоров и М. Тухачевский констатировали, что отношения между вооруженными силами как государственными институтами не могут быть отделены от «большой политики правительств». Германская внешняя политика была охарактеризована ими как «двуличная»[41].
Англия, Франция и Италия восприняли прорыв Гитлера к власти по-своему. Надежд на спасение Версаля нацификация Германии, конечно, не прибавила, но она открыла перспективу устранения призрака Рапалло. Под этим кисло-сладким соусом Б. Муссолини преподнес британскому премьер-министру Р. Макдональду и его министру иностранных дел Дж. Саймону 18 марта 1933 года «пакт четырех». В соответствии с ним на континенте должна была быть установлена директория Англии, Франции, Германии и Италии. Остальным, включая СССР, отводилась роль статистов или объектов политики. США оставлялись вне европейских дел. Одновременно намечалось совершить частичное территориальное переустройство, утолив аппетиты Берлина, главным образом за счет поляков.
Спонтанная реакция англичан на проект от 18 марта малоизвестна. В общем за, детали теряются в тумане. В научной литературе и закрытых служебных бумагах, однако, присутствует точка зрения, что мысль о «квартете» была навеяна Б. Муссолини именно Р. Макдональдом, хотя свои заслуги премьер не счел нужным оттенять.
Французы идею приняли, но так округлили углы, что формально из текста пакта трудно было вычислить, против кого он замыслен. Лондон и Рим французские поправки приняли. Гитлера эта редакция тоже устраивала. И не потому только, что давала «спокойствие и воздух»[42], желанные на крутом вираже. Существенней было, что западные державы принимали его правила игры, что на третий месяц пребывания на вершине власти он получал то, в чем демократы полтора десятилетия отказывали веймарским правительствам.
В данном контексте возникает обширный каталог вопросов. Были ли Стиннес, Крупп, Шредер и другие политически активные представители германской промышленной и финансовой олигархии лишь казначеями и толкачами при передаче канцлерского кресла предводителю нацистского движения? Или вернее иная интерпретация: они отождествляли себя с программными целями этого движения, ставили на «сильную руку, готовую сокрушить всех и вся во имя „Германия превыше всего“»? Покров над этой сокровенной тайной был едва приподнят в 1945 году, чтобы вскоре задернуться плотнее и дольше, чем до скончания века.
Другой слывущий за крамольный вопрос: было ли выдвижение Гитлера в канцлеры сугубо внутригерманской интригой или ей, выразимся предельно мягко, сочувствовали демократы в ряде столиц по обе стороны Атлантического океана? Не секрет, что Стиннес и прочие авторитеты немецкой элиты с 20-х годов систематически обрабатывали своих партнеров на Западе, рекомендуя им нацистов в качестве приемлемой или даже оптимальной альтернативы «марксистам» любого толка. Архивы, что держат под запором в США, могли бы кое-что высветить конкретно и предметно. Пока же отметим: «пакт четырех» не экспромт. Он как идея долго вызревал в недрах демократической дипломатии и взошел в известной нам форме на антикоммунистических дрожжах.
Итак, 15 июля 1933 года «пакт согласия и сотрудничества» – первый международный акт с участием нацистской Германии – состоялся[43]. Нет, это не оговорка. Сути не меняло то, что Национальное собрание Франции не ратифицировало пакт, вернее – ввиду протестов общественности правительство воздержалось вносить документ на одобрение парламента, и юридически он не обрел силу. И без ратификации Гитлер был введен в круг руководителей великих держав. С тех пор ему ни в чем не перечили, его просили лишь не перегибать палку, по принципу – всему свое время. Стартовала «политика умиротворения». Состоялась проба пера, которым через пять лет будет выведено пресловутое понятие «Мюнхен».
«Пакт четырех» в этом смысле не эпизод, а знак качества, символизировавший переход Европы в другое состояние. Военным его не назовешь. Но мирным оно тоже уже не было. Вступала в активную фазу стратегия, призванная, как комментировал заметный в ту годину лорд Ллойд, «отвлечь от нас (англичан) Японию и Германию и держать СССР под постоянной угрозой». И не просто под угрозой. «Мы, – заявлял лорд, – предоставим Японии свободу действий против СССР. Пусть она расширит корейско-маньчжурскую границу вплоть до Ледовитого океана и присоединит к себе дальневосточную часть Сибири… Мы откроем Германии дорогу на Восток и тем обеспечим столь необходимую ей возможность экспансии»[44].
А как отзывались европейские новации в Вашингтоне? О безразличии говорить едва ли уместно. При усердном изыске можно обнаружить отсветы треволнений. Но доказать, что администрация Ф. Рузвельта распознала, куда поползла стрелка политического барометра со сменой вех в Берлине, не удастся даже самым горячим почитателям президента. Как и властью предержащей в Лондоне и Париже, американской политической верхушкой руководила не истина, а идеологически зауженное представление о ней. Планы окружения и ликвидации Советского государства не вызывали протеста, несмотря на состоявшееся в 1933 году дипломатическое признание Соединенными Штатами СССР и многообещающий обмен нотами при установлении официальных отношений[45].
Активизация агрессивных сил побудила Советский Союз выступить 29 мая 1934 года с инициативой в пользу превращения Конференции по сокращению и ограничению вооружений в постоянную конференцию мира, наделенную полномочиями оказывать государствам, над которыми нависла угроза, «своевременную, посильную помощь, будь то моральную, экономическую, финансовую или иную»[46].
Франция и ряд малых стран заинтересовались этой идей. Англия была против. Госсекретарь США К. Хэлл в беседе с поверенным в делах СССР в Вашингтоне Б. Сквирским заявил, что он «не может связывать себя определенной позицией за или против проекта». Якобы по причине сдержанного отношения американцев к участию в любой международной организации[47]. Ларчик имел менее замысловатый замок: сближение с Советским Союзом по крупному международному вопросу неизбежно приняло бы антибританский оттенок, ибо за большинством международных интриг стоял тогда официальный или неофициальный Лондон.