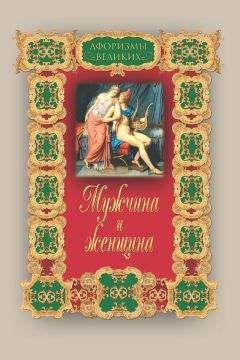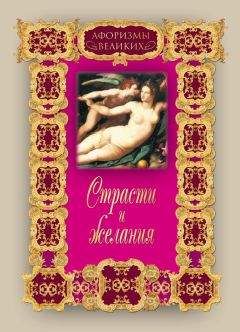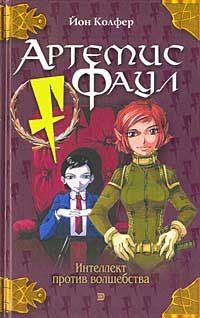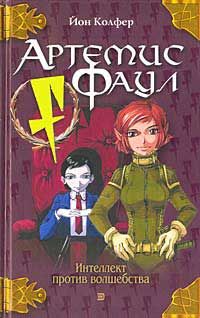Владимир Алексеенко - Шпионский арсенал. История оперативной техники спецслужб
В период существования СССР офицеры КГБ часто использовали термин «нападение», подразумевая под этим словом активность вербовочной работы той или иной резидентуры, эффективность работы агентуры, результаты оперативного и технического проникновение в главные объекты, которые были обозначены как цели разведки. Именно с термином «нападение» отождествлялись успехи резидентур и разведки в целом, например, своевременное получение требуемой Центру информации, часто срочной или важной упреждающей информации о планируемых действиях противника.
Словом «нападение» также пользовались оперативно-технические сотрудники центрального аппарата разведки и офицеры линии «ОТ» резидентур, когда велась разработка и планирование мероприятий по внедрению техники акустического контроля в наиболее интересные объекты. Как правило, такими объектами в период холодной войны были кабинеты руководителей иностранных посольств и торговых миссий, политических лидеров партий страны пребывания, а также квартиры активно действовавших сотрудников американских спецслужб, особенно резидентов ЦРУ.
Однако в деятельности разведки периодически были провалы и «проколы», которые списывались, когда на предателей, когда на неумелые или неправильные действия агентуры и офицеров разведки, на коварность спецслужб противника и на многие другие причины. При этом редко делались ссылки на слабую или недостаточную защиту как оперативную, так и техническую. Для иллюстрации приведем два примера, свидетелями которых был один из авторов книги.
В 1975 г. в Сан-Франциско, США, был завербован офицер разведки КГБ, находившийся под прикрытием «аспиранта» на стажировке в университете Калифорнии. Для подхода к нему и его вербовки контрразведка ФБР вначале использовала сбор информации об «аспиранте», а затем разыграла вокруг него весьма сложную оперативную комбинацию-ловушку, в которую и попался советский офицер.
В 1984 г. в Бонне, тогдашней столице ФРГ, был завербован и начал работу на ЦРУ другой офицер ПГУ, находившейся в долгосрочной загранкомандировке под прикрытием корреспондента ТАСС.
Многие детали этих двух вербовочных мероприятий существенно отличались друг от друга, в том числе обстоятельствами и мотивами вербовки и кем проводилась вербовка. В первом случае контрразведка ФБР организовала и провела серию мероприятий, в результате которых были получены документально зафиксированные компрометирующие материалы. Во втором случае офицер КГБ, ссылаясь на денежные трудности (растрата служебных финансов резидентуры), инициативно обратился за помощью к установленному сотруднику американской разведки, после чего начал активно работать на ЦРУ.
Несмотря на многие различия в разработке и вербовке этих двух офицеров, в одном было сходство: оба агента получили от своих кураторов первое оперативное задание установить в особо важной зоне советского представительства, где работали разведчики КГБ, американскую технику подслушивания. В дальнейшем после их ареста было установлено, что спецслужбы получили категорический отказ от завербованных ими офицеров. Оба мотивировали своё нежелание скрыто занести и установить технику подслушивания страхом и боязнью перед строгой системой допуска в служебные зоны, а также тщательной проверкой, которую регулярно проводили специалисты на наличие посторонней радио- и электронной техники.
Оба испугались, по их словам, вероятности обнаружения техники подслушивания и возможной расшифровки их секретного сотрудничества с американскими спецслужбами. Другими словами, они оказались перед «психологическим защитным барьером», который создавался и поддерживался силами КГБ внутри этих представительств СССР за рубежом.
Эти два случая, как и другие подобные эпизоды в деятельности советской разведки, дают основание предполагать о наличии эффективно работавшей системы собственной безопасности особо важных помещений КГБ, основу которой в то время составляла оперативно-техническая защита, практикуемая специалистами ПГУ в отношении как своих объектов на территории СССР, так и советских представительств за рубежом. Итак, разведка должна не только активно нападать, но и защищаться. Причем об эффективности защиты можно было судить только тогда, когда она соответствовала потенциалу средств и методов нападения противника как оперативных, так и технических. Следовательно, нападение и защита должны быть обязательными атрибутами разведки, и вопрос заключается в том, каковы должны быть соотношения между ними.
Основу защиты разведывательной деятельности составляют, в частности, строгая конспирация и надежное «прикрытие» разведчика. Не секрет, что в период холодной войны о появлении нового сотрудника резидентуры КГБ через неделю-другую знал весь дружный коллектив дипломатического и административного персонала посольства СССР.
Как не вспомнить на этом фоне офицера ЦРУ Марту Патэрсон, которая за два года работы в Москве тщательно выполняла все требования и правила своего оперативного прикрытия, что позволило ей провести 11 тайниковых операций с ценным агентом ЦРУ.
Глава 91. Новая концепция деятельности разведки КГБ
Юрий Владимирович Андропов, Председатель КГБ, 1967–1982 гг. (из архива Keith Melton Spy Museum)
В начале 1970-х гг. председатель КГБ Ю.В. Андропов на одном из совещаний заявил о новой концепции работы внешней разведки, согласно которой планируемые и проводимые оперативные мероприятия должны обязательно обеспечиваться надежной оперативной и технической защитой. Это предусматривало, в частности, существенное расширение географии строительства защищенных от подслушивания помещений в советских зарубежных миссиях, а также увеличение количества и эффективности мероприятий по обнаружению каналов утечки информации. Итак, активная работа разведки должна иметь надежную и эффективную защиту, которая в странах со сложной контрразведывательной обстановкой должна постоянно проверяться и многократно укрепляться.
Для этого потребовались новые кадры, и на базе 14го отдела ПГУ создается Управления оперативной техники, куда наряду с молодыми кадрами были направлены лучшие технические специалисты Комитета. Одновременно ЦНИИСТ ОТУ развернул широкую программу создания новых поисковых систем и современных по тем временам методик выявления каналов утечки информации, что явилось следствием увеличения финансирования этого направления работ, а также привлечением лучших конструкторов и разработчиков КГБ. Была создана целая серия новых поисковых приборов, таких, как, нелинейный детектор-локатор, импульсный металлоискатель, нелинейный анализатор проводных коммуникаций, системы выявления микрофонов различных видов и др. Разрабатывались и принимались новые нормативы и правила обеспечения собственной безопасности советских представительств за рубежом.
В разведке КГБ стали формироваться на постоянной основе поисковые бригады, куда входили также специалисты ОТУ КГБ, имевшие большую практику по установке спецтехники, которые квалифицированно могли оценить уже на месте возможные варианты внедрения техники подслушивания. Оперативные подразделения разведки стали получать задания на приобретение источников получения информации о технических возможностях западных спецслужб и о фактах создания каналов утечки информации в представительствах СССР за рубежом. В связи с широкой программой строительства новых комплексов советских миссий ПГУ КГБ готовило и направляло оперативно-технических офицеров в качестве инженеров-инспекторов для контроля за всеми этапами строительства новых советских зданий за рубежом.
Глава 92. Технические системы защиты переговоров
Аппаратура защиты переговоров «ГНОМ»(из архива Keith Melton Spy Museum)
Одной из первых систем защиты от подслушивания и ведения секретных разговоров явилась специально разработанная переговорная аппаратура «ГНОМ». Она предназначалась для обсуждения конфиденциальных и секретных переговоров между сотрудниками в обычном кабинете представительства СССР. Основу «ГНОМа» составляли две специальные переговорные гарнитуры: два микрофона и два наушника. Микрофоны помещались в специальные резиновые уплотнители для звукоизоляции. Таки-ми же приспособлениями были оборудованы и наушники. В целом система «ГНОМ» обеспечивала защиту переговоров двух человек, сидящих за одним столом или рядом. При этом рекомендовалось зашторить окно и включить радиоприемник в качестве дополнительного зашумления.
Несмотря на достаточно простую и надежную конструкцию, «ГНОМ» не стал активно используемой системой защиты. К этому времени были сконструированы специальные защитные кабины, полностью выполненные из прозрачного пластика, что, по мнению конструкторов, делало невозможным установку какой-либо техники подслушивания. Мебель в таких кабинах была полностью прозрачная; входная дверь также была из пластика со специальными резиновыми уплотнителями и дверными ручками с зажимами для максимально плотного прилегания к стенкам кабины. Стены кабины были сделаны двойными, и в промежутки между внешней и внутренней стенами подавался воздух от небольшого электронасоса, обеспечивающего приточно-вытяжную вентиляцию. Свежий воздух в кабину подавался и отводился через пластиковые трубы, оборудованные звукопоглощающими перегородками. Кабина прошла все испытания, и ей было присвоено кодовое наименование «Орбита».