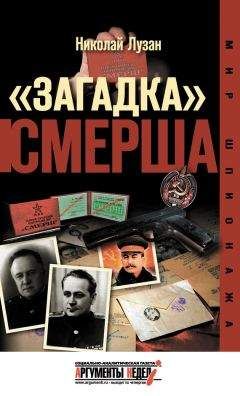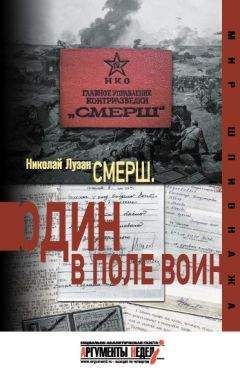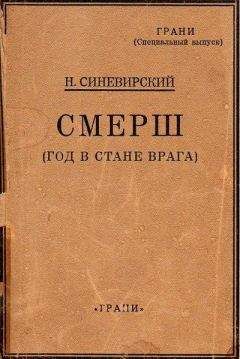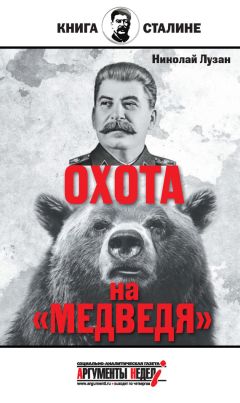Владимир Малявин - Тайный канон Китая
В чем же причины громкого успеха столь краткой и притом довольно темной книжки? Прежде всего, в том, что ее значение намного шире собственно технических аспектов военной науки. Теперь ее воспринимают — и не без основания — как ключ к успеху во всех житейских делах, удобное и эффективное руководство для деловых и личных отношений. А все дело в том, что китайское искусство стратагем предлагает хоть и своеобразный, но по-своему очень последовательный и практичный взгляд на вещи, которым можно руководствоваться во всех жизненных обстоятельствах; взгляд безупречно трезвый и разумный, но тем не менее отнюдь не чуждый… игровому и, значит, неискоренимо веселому отношению к миру.
Откуда берется такой взгляд на жизнь? Все из той же посылки о нераздельности истины и иллюзии, о которой свидетельствует популярная китайская поговорка, поминаемая и в книге о тридцати шести стратагемах: «если подлинное становится поддельным, то поддельное становится подлинным». Китайская мудрость в последней ее глубине и есть умение принять нескончаемый сон жизни за предельную, неоспоримую до мельчайших ее деталей реальность. Странствуя в этом океане иллюзий, мы можем только играть, но правила этой игры странным образом выдают абсолютно естественные, неизменные законы мироздания. Мы церемонимся, притворяемся, но наше притворство совершенно искренно. Мы забавляемся, но наша забава в высшей степени серьезна. Европеец Ницше на этой почве сошел с ума, а китаец прилежно устраивает свой быт.
Итак, китайская мысль вовсе не склонна считать игру легкомысленным, пустячным занятием. И, задумываясь над местом игры в человеческой жизни, мы легко придем к выводу, что игра отличается от «серьезного» поведения не содержанием и даже не способом действия, а только нашим отношением к действию. Подлинный мир игры — субъективный и внутренний, хотя сама игра целиком развертывается в мире объективного и внешнего. Она есть в своем роде самый радикальный способ совмещения нашего внутреннего мира с объективной действительностью, при котором одно не подменяет другое. Так сон не вытесняет явь, явь не отрицает сон, но одно неотделимо от другого и немыслимо без него. В сущности, игра принадлежит виртуальному пространству, где можно созерцать вещи в момент их рождения. В китайских романах полководцы часто меряются силами, лишь демонстрируя свое знание способов построения войск или применения стратагем: чтобы победить, им нет нужды устраивать настоящее сражение. Мудрому, чтобы постичь реальность, достаточно самого смутного намека…
Древние китайские мудрецы — и Конфуций, и даосские учителя — все человеческие занятия, всю, как сказали бы сегодня, практику человеческого совершенствования подводили под категорию игры (ю). Вывод совершенно естественный там, где человек живет самопревращением и, следовательно, эстетизирует свой опыт, от всего отстраняясь и все принимая. Для этого нужно превзойти раскол мира на субъект и объект. Игра указывает на ту недостижимую глубину нашего опыта, в которой я — воистину я — становлюсь чистой объективностью, вмещаю в себя мир и способен сердцем чувствовать
И горний ангелов полет,
И гад морских подземный ход,
И дольней лозы прозябанье…
Игра предполагает необыкновенную чувствительность: умение со-пере-живать всему сущему и одновременно сознавать предельность существования в самом себе. В игре нет никакой идеи, налагаемой на мир. Она требует «жить моментом», неисчерпаемым разнообразием жизненных мгновений и, значит, жить воистину, избегая зависимости от умственных абстракций, от всяких отвлеченных понятий. Тирании абстракций — неизбежно словесной — китайцы противопоставляли молчаливое доверие к самой жизни, к ее непрерывному потоку, каждое мгновение ставящему нас перед бездной тысяч превращений, десяти тысяч перемен.
Китайская мудрость — это наука бодрствования духа, чуткого отслеживания «текущего момента». Ее главный вопрос — не что, даже не как, но — когда? Когда действовать и когда хранить покой? Когда «быть» и когда «не быть»? Ключевые понятия китайской мысли — это «случай», который в жизни мудрого оказывается неизменной судьбой; всеобъятная «сила ситуации», которая без видимого воздействия направляет движение всего мира; «сокрытый импульс» жизни, определяющий изнутри природу каждой вещи. Знаменитые «китайские церемонии», многозначительная торжественность жеста были способом такой виртуальной коммуникации, подразумеваемой стратагемами. Коммуникации в безмолвии, где единичное сходится со всеобщим. Все, на что мог надеяться гениальный человек в Китае, — это «счастливый случай», позволяющий претворить свою судьбу, реализовать себя без остатка.
«Случай предоставляется нам лишь раз в день, в месяц, в год, в десять лет, в сто лет, — писал в XVII в. ученый Тан Чжэнь. — Вот почему нужно быть готовым не упустить его. Даже если этот случай откроется нам за едой, нужно тотчас бросить свои палочки и выбежать из-за стола. Ибо может статься, что, когда мы закончим трапезу, случай уже ускользнет от нас…
Случай — это встреча человека с его судьбой, и мгновение, в которое решается, быть ли победе или поражению…»
Счастливый случай, о котором толкует Тан Чжэнь, означает не что иное, как мгновенное и полное претворение предельно малого в предельно большое, конкретного — во всеобщее. Быть мудрым по-китайски — значит просто уметь все делать вовремя, без остатка переносить себя в целокупное движение жизни и тем самым, как ни странно, не выдавать своего присутствия, быть «некоронованным повелителем» мира, «драконом, сокрытым в облаках». Или, как резонно замечает автор «Тридцати шести стратагем», «все обнажить — значит все утаить».
Чтобы жить чистой текучестью жизни, не требуется знаний. Здесь потребно, повторим еще раз, только доверие к жизни и, следовательно, безыскусность, покой и целомудрие духа. Это доверие заявляет о себе в свойственном китайцам необыкновенном внимании к природе вещей, к малейшим нюансам жизненного опыта, в их умении довольствоваться малым и находить радость в, казалось бы, несущественных мелочах жизни. С этим доверием к жизни связана и глубоко укоренившаяся вера китайцев в то, что человеческое сердце, если его не волновать нарочно, «само по себе станет покойным и чистым», и в нем сама собою проявится глубочайшая правда бытия.
Одним словом, миссия человека как «самого духовного существа в мире» (традиционное определение человека в Китае) состоит в том, чтобы предоставить всему сущему в мире быть тем, чем оно есть: истинным господином жизни способен стать лишь тот, кто не будет стремиться повелевать жизнью, пытаясь привести ее в соответствие со своими отвлеченными и ограниченными представлениями. Вот резюме слишком древней и потому уже бесхитростной мудрости Китая: чтобы стать господином жизни, нужно просто позволить жизни быть…
И поскольку китайцы инстинктивно презирают абстракции, они готовы пользоваться ими весьма произвольно и даже цинично в качестве фиктивного обоснования своих действий или прикрытия своих истинных замыслов.
Доверие к жизни предполагает, что мы должны довериться тому «избытку» жизненного опыта в нас, который нельзя перевести в идеи, понятия или представления. Жить таким доверием — значит постоянно устремляться за пределы своего понимания в неизведанную, принципиально непонятную полноту нашего опыта. Таковы предпосылки двух фундаментальных категорий китайской мысли: понятия Дао, которое означает буквально Путь, и понятия Пустоты, которое на самом деле служит обозначением непостижимой, но все вмещающей в себя полноты бытия. Китайская мудрость есть именно Путь как правильная ориентация в потоке жизненных превращений и притом ориентация — по определению безыскусная, свободная от условностей! — на предельную целостность бытия. Поэтому Великий Путь, согласно традиционным определениям, «крайне прост и легок» и «не терпит мудрствования». Другими словами, для китайца мудрость в конечном счете совпадает с абсолютно естественным течением самой жизни. Но человек должен осветить жизнь духовным светом сердца, приведенного к «покою пустоты».
Здесь нужно отметить одно существенное, но до сих пор неосознанное различие между цивилизациями Запада и Китая. Если в Европе философская мысль всегда считала своей задачей выявление и исследование предметного содержания сознания, то китайские «немудрствующие мудрецы» (отнюдь не интеллек туалы-философы) избрали предметом своих размышлений сами пределы сознания. Иначе говоря, их интересовало не содержание сознания, не вопросы о том, что такое человек и мир, а то, что происходит с сознанием, когда оно достигает своего предела и, следовательно, превращается в нечто иное. Для них бытие каждой вещи удостоверялось, как ни странно, актом ее трансформации, «самоупразднения».