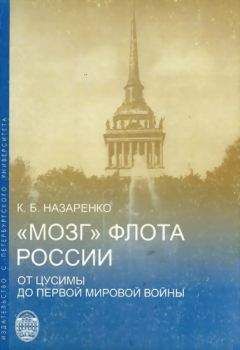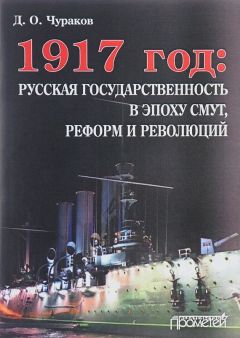Кирилл Назаренко - Флот, революция и власть в России: 1917–1921
Следует отметить трудность применения такого традиционного в советской историографии критерия, как социальное происхождение для выяснения политических симпатий офицеров (весьма специфической профессиональной группы) в условиях революции и гражданской войны.
Видимо, подавляющее большинство кадровых офицеров русской армии и флота эпохи 1917 г. было политически безграмотно и неспособно сделать осознанный политический выбор в бурную революционную эпоху. Это состояние психологически точно описал в своих знаменитых мемуарах А. А. Игнатьев: «Но беда моя была в том, что мыслить приходилось не о войсках, не о снарядах, а о чем-то отвлеченном, что я долго опасался именовать политикой. Офицерам подобным делом заниматься не полагалось. Сперва мысли продолжали лезть друг на друга, а когда я, потерев лоб, стал искать причину этой неразберихи, то с ужасом убедился в своей почти абсолютной политической безграмотности. Поступая в академию, я основательно изучил французскую буржуазную революцию. В первую русскую революцию узнал о существовании эсеров, вооруженных браунингами, и эсдеков, невооруженных, но более опасных для существовавшего режима, опиравшихся не на разрозненное крестьянство, а на организованные рабочие массы. Читал я как-то в Париже о Плеханове, но о других вождях “левых” партий даже не слыхал. В разнице между кадетами и октябристами разбирался плохо, так как не мог понять, чем отличается бородач-гастроном Миша Стахович – видный кадет (в действительности М. А. Стахович был октябристом. – К. Н.) – от моего корпусного товарища Энгельгардта – октябриста. С Пуришкевичем знаком не был, и речи его представлялись мне только не лишенной таланта болтовней. А Марков 2-й казался просто грубым хамом»[262]. И это писал многолетний военный атташе во Франции, генштабист, гвардеец, вращавшийся в «высших сферах», внук председателя Государственного совета, сын командующего военными округами и генерал-губернатора, племянник министра внутренних дел[263], а что же было спрашивать с рядового офицера?
Г. К. Граф красочно рисует состояние растерянности офицеров, вынужденных определяться со своими политическими взглядами. Весной 1917 г. в Гельсингфорсе офицеры попытались организовать нечто вроде профессионального союза, «но без всякой политической окраски». Местный Совет потребовал от офицеров определиться с политической платформой. «Как ни старались офицеры доказать, что они стоят вне политики и беспрекословно исполняют распоряжения Временного правительства, члены совета упорно стояли на своем и стали угрожать, что не допустят образования союза.
Пришлось изобретать “платформу”. Какой же могла быть платформа офицеров? Воспитанные в понятиях старых традиций и старого духа, они, тем не менее, не могли не считаться с обстановкой момента. Поэтому им оставалось только принять платформу законности, права и порядка. Платформа вышла несложной. В ней не говорилось ни про “завоевания революции”, ни о всемирном пролетариате и власти советов, но только о подчинении Временному правительству. Местным демагогам она не понравилась: они остались при убеждении, что офицерство – ненадежно и что за ним надо посматривать»[264].
С монархистом Г. К. Графом солидарен во взгляде на офицеров большевик Ф. Ф. Раскольников. Рассказывая о событиях Февральской революции, он пишет: «здесь мне впервые бросилась в глаза та легкость, с которой многие заядлые царисты отрешились и открестились от своих старых монархических воззрений тотчас после первой неудачи; здесь ход идей в одно мгновение ока определился ходом вещей»[265]. Описывая свою поездку к Красному Селу для организации отпора войскам Краснова – Керенского 27 октября 1917 г., Ф. Ф. Раскольников замечает: «Странное впечатление производил мой спутник (офицер гвардейского запасного Измайловского полка. – К. Н.): по внешности, по кругозору он был типичный гвардейский поручик старорежимных времен, что, однако, не помешало ему с головой окунуться в революцию в жажде кипучей работы. Неизвестно чем именно и с какой стороны захватило его движение. Вероятнее всего, дело решил простой случай. С таким же увлечением он мог бы работать и на стороне белогвардейцев. Но было что-то детски наивное в этом служении пролетарской революции молодого изящного офицерика, который, едва сознавая смысл происходящих событий, до самозабвения работал против своего собственного класса»[266]. Правда, затем Ф. Ф. Раскольников утверждает, что «такие славные оригиналы … встречались тогда редкими одиночками»[267].
Исключение в смысле политической сознательности составляли те немногие, кто примкнул к Корниловскому движению в августе 1917 г. или участвовал в «добровольческом движении» в послеоктябрьские дни; а также те, кто вступил в РСДРП(б) и другие левые партии до Октября (как В. А. Антонов-Овсеенко) или сразу после него (как М. Н. Тухачевский). Для остальных было практически безразлично – оказаться в рядах красных или белых. Политические убеждения большинства профессиональных офицеров ограничивались идеей воссоздания сильного в военном отношении государства в границах бывшей Российской империи. Эту цель заявляли белые, об этом свидетельствовала политика красных. Кто из них первым успевал мобилизовать офицера, на сторону той силы он и становился, причем, насколько можно судить, социальное происхождение в большинстве случаев не играло существенной роли. Естественно, что впоследствии, во время службы конкретного офицера в Красной Армии или на Флоте, у него возникали различные отношения с представителями политического руководства, с рядовыми красноармейцами и краснофлотцами. Далеко не всегда бывшего офицера, или тем более генерала, в РККА и РККФ окружала атмосфера доверия, создавались условия для его плодотворной работы. Зачастую необоснованные придирки и прямые оскорбления могли толкнуть офицера к изменению его политического выбора и попытке перейти на сторону белых, однако большинство мобилизованных Советской властью кадровых офицеров лояльно несло свою службу. В Красной Армии и Флоте расстояние между высоким служебным постом и арестом могло быть небольшим, правда и вчерашний арестант мог завтра занять руководящую должность. Например, 25 декабря 1918 г. начальник МГШ Е. А. Беренс и комиссар штаба Л. М. Рейснер в телеграмме, направленной в РВС БФ, просили освободить из – под ареста А. В. Домбровского (бывшего командира линкора «Полтава») «необходимого для разработки правил внутренней службы на судах»[268]. Уже 3 февраля 1919 г. А. В. Домбровский не просто был освобожден и назначен членом уставной комиссии, а занимал пост начальника штаба БФ[269].
После того как руководство РСДРП(б) окончательно взяло курс на строительство регулярной Красной Армии (март – апрель 1918 г.), большевики стали выглядеть значительно привлекательнее для кадрового офицерства, чем их тогдашние союзники – левые эсеры и анархисты. 21 марта издается приказ Высшего военного совета об отмене выборного начала в Красной Армии[270]. В то время как Л. Д. Троцкий в публичных выступлениях призывал к использованию опыта военных специалистов и насаждению дисциплины, лидер левых эсеров М. А. Спиридонова продолжала твердить о том, что «пора отбросить мечты о возможности воссоздания старой регулярной армии… Защитить революцию может только сам восставший народ»[271]. После разрыва с левыми эсерами и анархистами в июле 1918 г. образ большевиков в глазах кадрового офицерства становился еще привлекательнее.
В противоположность кадровым офицерам, офицеры военного времени воспринимали себя не как профессиональных военных, а как инженеров, учителей, служащих, студентов. У офицеров военного времени либо была гражданская профессия, либо существовали возможность и желание ее получить. На их политический выбор влияло, прежде всего, самоощущение представителя той или иной «гражданской» социальной группы, а кроме того, и возросшая самооценка после получения офицерского чина. Во взаимоотношениях кадровых офицеров огромную роль играли корпоративные связи, притяжение которых было значительно сильнее размытых политических взглядов. Конформизм кадровых офицеров по отношению к любой существующей власти усиливало то обстоятельство, что подавляющее большинство из них не имело других средств к существованию, кроме получаемых на военной службе. На политический выбор морских офицеров повлияло и то обстоятельство, что большинство их было сосредоточено в районах, где Советская власть утвердилась быстро и прочно.
О серьезном различии в механизме формирования политических симпатий и антипатий кадрового офицерства и офицеров военного времени пишет И. Н. Гребенкин: «Фигура Корнилова, как известно, была особенно привлекательна для армейской молодежи, тогда как говорить о его безоговорочной популярности в офицерской среде в целом не приходится. Своим участием в событиях Февральской революции (в первую очередь арестом членов царской семьи) Корнилов совершенно определенно позиционировал себя как революционный генерал, что делало его в глазах значительной части офицеров старой армии слишком левым и даже “красным”. Это обстоятельство серьезно повлияло на состав Добровольческой армии: не менее трети добровольцев составляла необстрелянная учащаяся молодежь, юнкера, кадеты, а также свежеиспеченные прапорщики, для которых верхом боевого опыта было участие в октябрьских уличных боях в Москве»[272]. И далее: «Своеобразная обстановка первых месяцев существования Добровольческой армии объективно формировала новый тип офицера, для которого “добровольческие” ценности уже приходили на смену традициям и ценностям старой императорской армии. Весьма интересное и важное наблюдение принадлежит полковнику И. Ф. Патронову, возглавлявшему в штабе Добровольческой армии отдел комплектования. Его внимание привлек образ действий и высказываний одного из молодых офицеров отдела – прапорщика Пеленкина, который являл собою тип добровольца-фанатика и был корниловцем, вероятно, более, чем сам Корнилов. Сущность этого явления Патронов пояснил на простом примере: если старые кадровые офицеры исполнили бы любой приказ командующего вне зависимости от собственного к нему отношения, то для добровольца-фанатика именно идея борьбы с большевизмом будет превыше воинской дисциплины и даже превыше обожания Корнилова»[273].