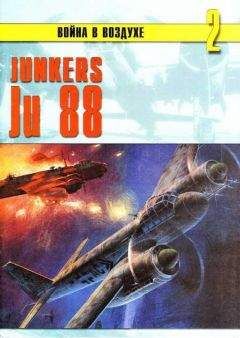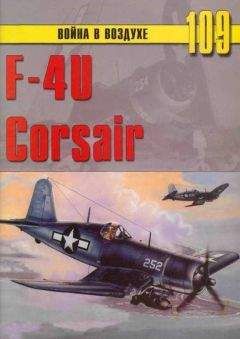О. Гончаренко - От Аустерлица до Парижа. Дорогами поражений и побед
Наивность и искренность, в которые Багратион облекал свои выступления против Барклая, служат оправданием для личности Багратиона, геройски павшего на поле брани. Но если личные его подвиги давали высокие примеры бесстрашия и мужества, то бестактные поступки против Барклая не могли не иметь деморализующего влияния. А между тем именно Багратион при своем влиянии в армии мог быть лучшей опорой Барклая. Барклай ценил достоинство Багратиона, щадил его самолюбие, когда последнему, несмотря на старшинство в чинах, связи при дворе и огромную популярность в армии, пришлось при соединении под Смоленском двух армий стать в подчинение к Барклаю. Такт Барклая проявился уже в том, что он лично поехал навстречу Багратиону.
Однако поведение Багратиона способно было вывести из терпения и всегда спокойного Барклая. Если верить рассказам очевидцев, в армии происходили бесподобные сцены: дело доходило до того, что главнокомандующие в присутствии подчиненных «ругали в буквальном смысле» один другого. «Ты немец, тебе все русские нипочем», — кричал Багратион. «А ты дурак и сам не знаешь, почему себя называешь коренным русским», — отвечал Барклай. Можно ли в таких условиях говорить о какой-либо солидарности в действиях, являвшейся одним из главных залогов успеха…
Обострение отношений между главнокомандующими, непосредственность их взаимоотношений (Багратион фактически должен был подчиниться Барклаю, а между тем армия его продолжала составлять отдельное целое с особым штабом и т. д.), сознание необходимости объединить армии всецело в одних руках привело к назначению Кутузова.
Как отнеслись к этому факту Барклай и Багратион? Любопытное замечание по этому поводу делает в своих записках Ростопчин, как мы знаем уже, благожелательно настроенный к Багратиону. «Барклай, — сообщает он, — образец субординации, молча перенес уничижение, скрыл свою скорбь и продолжал служить с прежним усердием. Багратион, напротив того, вышел из всех мер приличия и, сообщая мне письмом о прибытии Кутузова, называл его мошенником, способным изменить за деньги». Правда, А.Н. Попов не без основания указывает{2}, что последний отзыв может быть заподозрен в правдивости, так как записки Ростопчина, писанные много лет позже событий 1812 г., далеко не всегда являются надежным источником, Ростопчин излагает в записках некоторые события уже не так, как они рисовались ему в момент действия. И вероятно, резкие слова, приписанные Багратиону и являющиеся отчасти отзвуком недоброжелательного отношения самого Ростопчина к Кутузову, должны быть сильно смягчены. Но можно думать, что в них есть и доля правды.
При своей излишней прямолинейности, Багратион мог сгоряча сказать что-нибудь весьма резкое, так как, надеясь получить место главнокомандующего, Багратион отрицательно относился к Кутузову. Человек, как мы видели, весьма самонадеянный, Багратион думал, что он один может спасти Россию, что он один достоин вести войска к победе над Наполеоном. Багратион, конечно, знал, что многие указывали на него как на заместителя Барклая.
«Впоследствии я узнал, — говорит Ростопчин в своих записках, — что Кутузову было поручено многими из наших генералов просить государя сместить Барклая и назначить Багратиона». Не показывает ли это, что честолюбие и соперничество являлось и у Багратиона стимулом выступлений против Барклая? Недаром Ермолов, в ответ на жалобы Багратиона, и тот должен был устыдить его: «Вам, как человеку, боготворимому подчиненными, тому, на кого возложена надежда многих и всей России, обязан я говорить истину: да будет стыдно вам принимать частные неудовольствия к сердцу, когда стремление всех должно быть к пользе общей; это одно может спасти погибающее отечество наше!.. Принесите ваше самолюбие в жертву погибающему отечеству нашему, уступите другому и ожидайте, пока не назначат человека, какого требуют обстоятельства»…
Барклай безропотно подчинился и «в полковых рядах сокрылся одиноко». Самолюбие Барклая должно было страдать ужасно. Его заместитель явился с обещанием «скорее пасть при стенах Москвы, нежели предать ее в руки врагов». И должен был последовать, в конце концов, плану Барклая. На военном совете после Бородина, когда Барклай первый высказал мысль о необходимости отступления, Кутузов, по словам Ермолова, «не мог скрыть восхищения своего, что не ему присвоена будет мысль об отступлении». И здесь постарались набросить тень на Барклая. Кутузов, желая сложить с себя ответственность, указывал в своем донесении, что «потеря Смоленска была преддверием падения Москвы», не скрывая намерения, говорит Ермолов, набросить невыгодный свет на действия главнокомандующего военного министра, в котором и не любящие его уважали большую опытность, заботливость и отличную деятельность. Ведь записки писались, когда острота событий прошла[15].
На Бородинском поле Барклай проявил свою обычную предусмотрительность и энергию. Быть может, и не совсем скромно было со стороны Барклая писать своей жене: «Если при Бородине не вся армия уничтожена, я — спаситель», то все же это более чем понятно, когда заслуги Барклая в этот момент явно не желали признавать. Барклай, уже лишившись главного командования, продолжал чувствовать к себе недоверие. Терпеть создавшееся двойственное положение было для Барклая слишком тяжело. И он искал смерти на поле битвы.
Там, устарелый вождь, как ратник молодой,
Свинца весёлый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —
Вотще!…
Это не поэтический вымысел Пушкина. На другой день Бородина Барклай сказал Ермолову: «Вчера я искал смерти и не нашел». «Имевший много случаев, — добавляет Ермолов, — узнать твердый характер его и чрезвычайное терпение, я с удивлением видел слезы на глазах его, которые он скрыть старался. Сильны должно быть огорчения».
Откровенные мнения Барклая о «беспорядках в делах, принявших необыкновенный ход», не нравились Кутузову. И в конце концов Барклай (22 сентября) совсем оставил армию. «Не стало терпения его, — замечает Ермолов. — Видел с досадою продолжающиеся беспорядки, негодовал за недоверчивое к нему расположение, невмешательство к его представлениям»… Выступая с критикой, Барклай поступил честнее всех других. Он откровенно высказал в письме Кутузову все те непорядки, которые господствовали в армии. «Во время решительное, — писал он, — когда грозная опасность отечества вынуждает отстранить всякие личности, вы позволите мне, князь, говорить вам со всею откровенностью»…
Часовня в память М.Б. Барклая де ТоллиНо еще с большей откровенностью высказался он в письме императору Александру 24 сентября, т. е. тогда, когда решение оставить армию было принято им уже окончательно. «Я умоляю, Ваше Величество, — писал Барклай, — сделать мне это благодеяние, как единственную милость, которую прошу для себя… Я не нахожу выражений, чтобы описать ту глубокую скорбь, которая тяготит мое сердце, когда я нахожусь вынужденным оставить армию, с которой я хотел и жить и умереть. Если бы не болезненное мое состояние, то усталость и нравственные тревоги должны меня принудить к этому. Настоящие обстоятельства и способы управления этой храброй армией ставят меня в невозможность с пользою действовать для службы»… И Барклай очень резко отзывается об армии, находящейся под управлением неопытных лиц, причисленных к «свите двух слабых стариков, которые не знают другого высшего блага, как только удовлетворение своего самолюбия, из которых один, довольный тем, что достиг крайней цели своих желаний, проводит время в совершенном бездействии и которым руководят все молодые люди, его окружающие; другой — разбойник, которого присутствие втайне тяготит первого»… Высказав все накопившееся чувство негодования, Барклай ушел…
И хотя имя Барклая было реабилитировано после 1812 г. и ему вновь было поручено командование армией; хотя и памятник ему поставлен рядом с Кутузовым, но все же не Барклай вошел в историю с именем народного героя Отечественной войны. А, быть может, он более всех заслужил эти лавры.
РОСТОПЧИН — московский главнокомандующий{3}
По словам современника Евреинова, никогда в Москве так не веселились, как в 1811 году{4}. Московским обывателям не верилось, чтобы «французы подумали напасть на Россию», как сообщает из Москвы Поздеев А.К. Разумовскому. Несмотря на все старания литературных французоненавистников, веселящаяся Москва довольно равнодушна к их обличениям и колкой сатире. Одним словом, Москва еще очень далека от «патриотического возбуждения». Зато «бессмертные московские», как именует Ростопчин в письме Александру московских отставных вельмож, не прочь поиграть в оппозицию. Фрондерство — это специфическое явление Москвы, которое отметила еще в 1806 г. мисс Вильмот, компаньонка кн. Дашковой: «Все те, кто ныне не в милости, фрондируют». «Москва, — пишет Вильмот, — это государственные политические Елисейские Поля России».