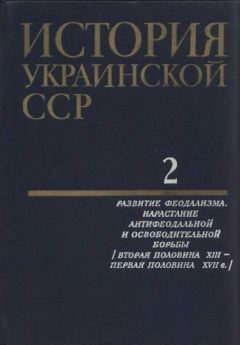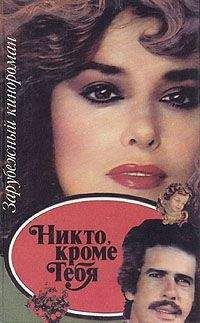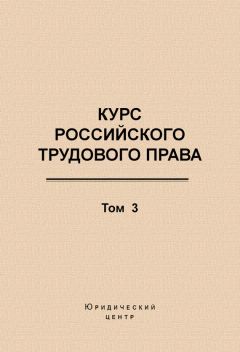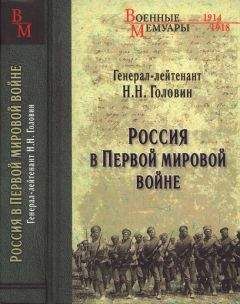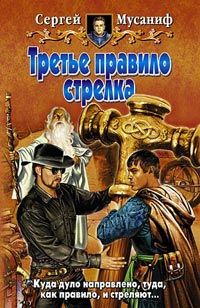Коллектив авторов - Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис
В завершающей, седьмой, части монографии «От войны к революции» рассмотрено развитие страны после Февраля 1917 г. В центре внимания авторов находятся события революции 1917 г., ее движущие силы, характер и результаты. Тщательно прослежены политические, социальные и экономические процессы последнего года участия России в мировой войне, ставшего одновременно рубежом в ее истории. После прихода к власти большевиков, в условиях социальной и политической деструкции, Россия потерпела поражение, заключив сепаратный мир и одновременно сменив вектор исторического развития.
В работе над монографией принял участие коллектив исследователей из Института российской истории РАН и его Поволжского филиала в Самаре, Российского государственного гуманитарного университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург), Самарского государственного экономического университета, Тверского государственного университета, Российского государственного архива социально-политической истории, НИУ «Высшая школа экономики».
Авторы выражают признательность Российскому гуманитарному научному фонду, финансовая поддержка которого обеспечила подготовку и публикацию этой книги.
Часть I.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА
Глава 1.
МЕЖДУ ДВУХ ВОЙН: ДИЛЕММЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
(Д.Б. Павлов)
1. От мирового перепутья к европейскому маневрированию
Растерянность российских правящих кругов от проигрыша Японии в войне 1904–1905 гг. продолжалась недолго и скоро сменилась поиском новых направлений и приемлемых линии и модели поведения на мировой арене. Объективное положение вещей диктовало необходимость длительной передышки, чтобы залечить нанесенные войной раны и, что еще более важно, для проведения внутренних реформ, направленных на всестороннюю модернизацию страны, в том числе на восстановление ее военной мощи. По позднейшему признанию современника, крупного военного деятеля, России «необходимы были долгие годы мира и глубокая внутренняя перестройка»{122}. В противном случае стране грозил откат в разряд второстепенных держав, а в худшем варианте — и превращение в государство-аутсайдера. Таким образом, проблемы внутренней жизни России и ее международной политики как, быть может, никогда ранее, оказались теснейшим образом взаимосвязаны. Во внешнеполитическом аспекте требовавшийся тайм-аут предполагал временный отказ от имперских амбиций и переход к политике балансирования, маневрирования и уступок. Сторонником преимущественно оборонительного образа действий во внешнеполитической сфере ради возрождения «Великой России» выступил новый (с 1906 г.) премьер-министр П.А. Столыпин — всякая иная политика, полагал он, была бы «бредом ненормального правительства», способным придать силы революции, «из которой мы только начинаем выходить»{123}. Император Николай II, обескураженный дальневосточным провалом, занял выжидательную и в целом миролюбивую позицию. Великодержавная активность России оказалась скована, роль ключевого участника международной жизни временно утрачена.
В мировую политику, центром которой по-прежнему являлся Старый Свет, послевоенная Россия возвращалась, не имея цельной и взвешенной внешнеполитической концепции, которая, впрочем, разработана так и не была. Определяющим фактором системы международных отношений тех лет выступало соперничество двух европейских группировок — австро-германо-итальянского блока, оформленного еще в 1882 г. и затем дважды (в 1902 и 1912 гг.) возобновленного, с франко-британским «Сердечным согласием» (Entente Cordiale) в виде трех конвенций по колониальным делам, заключенным Парижем и Лондоном в апреле 1904 г. От активности на Дальнем Востоке Петербургу, естественно, пришлось отказаться, взамен попытавшись утвердиться на европейском театре с задачей укрепить свое пошатнувшееся международное положение и занять достойное место в «концерте» держав в условиях растущей мощи и притязаний Германии и ее союзников. Однако прежде России требовалось продемонстрировать свою «союзоспособность» с тем, чтобы расширить круг надежных зарубежных партнеров. В этом смысле сомнений не вызывала лишь Франция, оборонительный союз с которой был заключен еще в 1891–1893 гг. Сохранявшиеся противоречия, особенно на Ближнем Востоке, не портили климата доверия, который в начале XX в. доминировал во взаимоотношениях двух стран, во многом благодаря многолетним интенсивным межгосударственным и межличностным контактам, а также взаимно благожелательному общественному мнению, к тому времени уже ставшему традиционным — идея сближения сформировалась в общественном сознании России и Франции еще в середине 1880-х гг. Немаловажно и то, что Париж, являясь крупнейшим российским кредитором, в то же время нуждался в военной поддержке с востока больше, чем наоборот. Таким образом, русско-французский блок по сути являлся союзом равных{124}.
Напротив, взаимоотношения России с Великобританией и после дальневосточной войны оставались окрашены взаимными опасениями и недоверием, вызванными соперничеством двух стран на огромном пространстве от Средиземного моря до Тихого океана, особенно на Среднем Востоке. Позитивный образ Англии как страны политических свобод и широких прав личности и, в конечном счете, как идеала будущего политического и гражданского устройства конституционно-монархической России имел хождение главным образом в среде либеральной интеллигенции, в то время как военные и «правые» круги склонялись к антибританской и прогерманской ориентации, не говоря о гессенских, прусских, мекленбургских и прочих родственных влияниях при дворе. Трудный процесс освобождения Петербурга и Лондона от груза застарелых взаимных претензий и подозрений (внешнеполитические стереотипы являются одними из самых устойчивых и труднопреодолимых, утверждают специалисты по имиджелогии{125}) начался с приходом к руководству дипломатических ведомств двух стран — сэра Э. Грея (в 1905 г.) и А.П. Извольского (1906). Последний, кстати, был одним из первых русских дипломатов такого ранга, кто с помощью прессы пытался влиять на формирование внешнеполитических предпочтений своих сограждан.
Как и в случае с Францией, в основе сближения России с Англией лежало стремление поддержать равновесие сил великих держав при взаимном понимании общности долговременных интересов перед лицом растущего военного и морского могущества Германии. Главную роль в переходе Лондона на антигерманские позиции в историографии принято отводить англо-германскому соперничеству на море{126}. Русская либеральная и умеренно-правая печать поддержала курс Извольского на сближение с Великобританией, доказывая, что, пока Англия и Россия будут ссориться между собой и интриговать друг против друга, «добыча» на Балканах и в черноморских проливах ускользнет из их рук и достанется Германии{127}. Подписание англо-русской конвенции 1907 г. по разграничению сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете одновременно подстегнуло осознание возможности и необходимости вернуть Россию на путь восстановления своего великодержавного статуса и роли в европейских делах в качестве актуальной задачи ее внешней политики. Русско-британская конвенция 1907 г. в совокупности с ранее заключенными двусторонними франко-русским и франко-британским соглашениями положили начало Тройственному согласию — этому, по мнению его архитекторов, «законному чаду Тройственного союза»{128}. Для Великобритании, отмечают британские исследователи, эти договоренности выступали одновременно и инструментом сдерживания Германии в Европе, и осуществлением своего давнего стремления к разграничению интересов с Россией в Азии, и площадкой для дальнейшего смягчения отношений с Францией{129}.
Идейно-духовное наполнение и пути осуществления на международной арене столыпинского лозунга «Великой России» как «выражение факта и идеи русской силы» были сформулированы либералами в серии статей, начатых публикацией журналом «Русская мысль» в 1908 г. Вскоре затем появилось несколько сборников статей, посвященных вопросам внешней политики и обороны, которые также вышли из-под пера представителей праволиберальных течений и группировок — «Великая Россия» (Кн. 1–2.1910–1911), «Patriotica: политика, культура, религия, социализм» (1911) и др. П.Б. Струве поставил задачу «возвращения нашей внешней политики домой, в область, указываемую ей и русской природой, и русской историей», назвав свой внешнеполитический конструкт «либеральным империализмом», осуществляемым по «англо-саксонской» формуле: «…максимум государственной мощи, соединяемый с максимумом личной свободы и общественного самоуправления»{130}. При этом он отталкивался от того, что оселком и мерилом всей «“внутренней” политики как правительства, так и партий должен служить ответ на вопрос: в какой мере эта политика содействует так называемому внешнему могуществу государства?»{131} На международной арене курс, предложенный либералами, предполагал сохранение Россией «самостоятельного положения» относительно Германии и перемещение основного вектора ее имперской политики в черноморский бассейн, Средиземноморье и на Ближний Восток, дабы в конечном счете, при опоре на западноевропейские демократии, утвердиться в Константинополе и черноморских проливах. Распад империи султана с утратой ее европейской части, включая Босфор и Дарданеллы, давно считался более чем вероятным. Либералы одобрительно отзывались о деятельности на мировой арене нового руководства Министерства иностранных дел, а их идеи и лозунги, в свою очередь, соответствовали внешнеполитическим ориентирам Извольского и его преемника С. Д. Сазонова — настолько, что те порой прибегали к услугам кадетских идеологов в качестве неофициальных консультантов по проблемам международных отношений либо популяризаторов своего курса. В частности, Сазонов с удовлетворением констатировал, что во внешнеполитических вопросах русская либеральная печать «не утрачивала способности беспристрастной и здравой оценки политического положения»{132}.