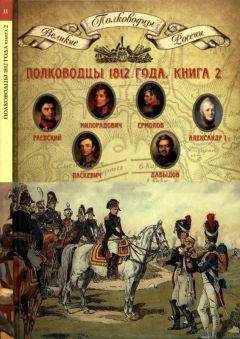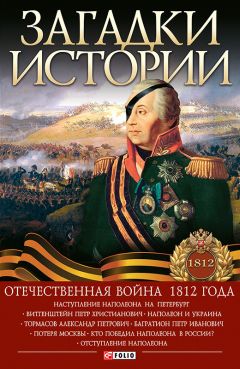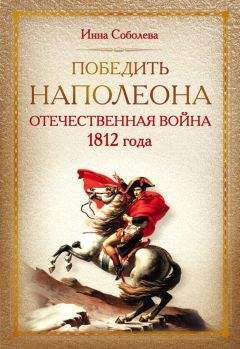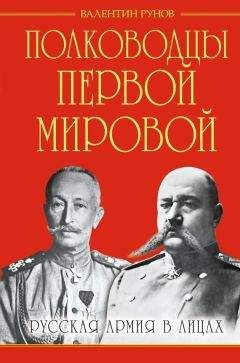Олег Пленков - Культура на службе вермахта
В процессе поиска истины во внешне сложных и неоднозначных ситуациях Раймон Арон различал интенции судьи, ученого и философа. Первый стремится выяснить кто (или что) виноват? Второй ведет к установлению постоянных связей сосуществования и последовательности. Третий стремится сблизить, соединить обе первых, поставив каждый на свое место в системе социального детерминизма{630}. Последовательно вставая на перечисленные позиции, в первом случае следует ответить, что виноваты фюрер и политическая система Третьего Рейха. На вопрос ученого нужно ответить, что какой-либо жесткой последовательности в эволюции культурной жизни в ответ на непоследовательные действия политической власти и не могло быть. Интенция же философа выливается в утверждение значимости культурной традиции на фоне неопределенности нацистских политических требований к культурной сфере и неоднозначности происходившего в культуре Третьего Рейха.
На самом деле, каких-либо фундаментальных изменений в сфере науки, образования, в сфере отношения немцев к религии, в обычной массовой культуре современного общества нацисты не успели произвести. Во всех без исключения сферах культурной и духовной жизни (образование, искусство, церковь) нацистские преобразования носили явно половинчатый характер, в отличие от Советского Союза, где культурная революция носила более последовательный характер. Венгерский философ Акош Силади писал, что источник различий между нацистской и сталинской тоталитарными культурами кроется в том, что первая сохраняет денежную общность, ограничивая рыночный культурный панэстетизм политической сферой, эстетизирует не мир, а политику и поглощенный политикой мир. Сталинский же тоталитаризм уничтожил денежную общность, и тем самым вернул общество к предсовременному состоянию. Сталинская тоталитарная культура работала не для масс потребителей, а для масс верующих. В сталинской культуре и мысли не могло возникнуть о том, что надо что-то продавать, и что те, для кого этот товар изготовлен, могут решать, купить его или нет{631}. В нацистской же культуре рыночный спрос продолжал быть актуальным.
Если обратиться к сфере образования в Третьем Рейхе, то видно, что фундаментальных структурных перемен здесь не было произведено, но произошел всего лишь перенос акцентов с концентрации на содержательной стороне обучения (чем всегда славилась немецкая система образования) на воспитательную — понятно, в каком направлении. Искомая унификация среднего образования нацистами хотя и была произведена, но не до конца — кое-какие лазейки остались. К тому же не следует забывать о борьбе компетенций в Третьем Рейхе — она также отразилась на состоянии и структуре образования. Даже ликвидация смешанного обучения не была осуществлена последовательно и повсеместно.
В университетах и науке также, несмотря на популярность национал-социализма среди студентов, оставалась дистанция по отношению к Третьему Рейху. Крупные немецкие ученые относились к нацизму снисходительно и не считали его в полном смысле слова респектабельным. Евреи, составлявшие значительную часть немецкой ученой элиты, по большей части эмигрировали или были лишены работы, а оставшиеся маститые немецкие ученые, хотя в целом бесхарактерно и попустительски отнеслись к удалению коллег-евреев, но сохраняли дистанцию по отношению к нацистской идеологии. Каких-либо коллективных деклараций или выступлений ученых в поддержку режима не было. Это, впрочем, не означало сохранение традиционной для Запада академической автономии — немецкие профессора, традиционно очень влиятельные в Германии, при нацистах постепенно утратили контроль в вопросах научной квалификации и назначений на должность, в вопросах формирования учебных программ и курсов, а также в самоуправлении университетов. Вследствие этого, в университетах имело место перенасыщение программ идеологическими курсами, часто высосанными из пальца. Уже одно то, что ректоры стали носить титул «университетский фюрер», говорит о многом. Такое положение стало следствием конформизма большинства немецких ученых — знания и ученость не влекли за собой автоматически высокую моральную чуткость (ради справедливости следует сказать, что некоторые исключения были и здесь — Макс Планк, Вернер Гейзенберг, некоторые другие ученые). В целом, нельзя недооценивать консерватизма в ученой среде — он, по всей видимости, и спас немецкий академический истеблишмент от окончательного грехопадения. Впрочем, как уже говорилось выше, сами нацисты презрительно отзывались о «гнилой интеллигенции» и ни во что ее не ставили.
Итоги политики нацистов в сфере культуры также не могут быть расценены однозначно: в эстетической политике нацистов, наряду со стремлением к унификации вкусов и пристрастий, имели место неоднозначные решения и действия. Некоторые из них можно даже считать привлекательными и адекватными, поскольку они не только не прервали немецкой культурной традиции, но способствовали поступательному ее развитию. Кроме того, как было показано выше, в Германии, помимо нацистского эстетического официоза, продолжало существовать во «внутренней эмиграции» и подлинное искусство. Поэтому с полным правом можно сказать, что не контрасты и разделительные линии определяли развитие немецкого искусства в рассматриваемый период, а нюансы и едва определимые тенденции, которые часто трудно как-либо оценить с точки зрения социальной истории. В отличие от СССР, где новая тоталитарная культура имела революционное происхождение и самоутверждалась как именно революционная культура, в нацистской Германии на культурную сферу во многом продолжала влиять рыночная стихия массового общества{632}.
С другой стороны, есть некоторые нюансы, позволяющие говорить о собственно нацистском искусстве, которое было важной частью создания нацистами искусственной действительности с ее пафосом силы, культом героев, превознесением подвига, возвышенным и напряженным восприятием истории. Для многих немцев и ненемцев нацизм был, прежде всего, необычайно ярким эстетическим переживанием. В 1980 г. Сьюзан Зонтаг в сборнике «Под знаком Сатурна» опубликовала статью под странным на первый взгляд названием «Очаровывающий фашизм» (Fascinating Fascism){633}. Она писала, что крупной ошибкой было бы считать причиной возвышения и усиления нацизма только насилие и жестокость. Гораздо больше у нацизма от идеалов жизни как искусства, от культа красоты, от фетишизации героизма и мужества, от экстатического чувства общности, от отвержения интеллектуализма. Переход от возвышенной романтики к политическому насилию на практике часто трудно заметить. Старейшина немецких историков XX в. Фридрих Майнеке, который всю жизнь занимался сложными отношениями между немецким романтическим национализмом и космополитическими веяниями, берущими начало в Просвещении, оставил интересное наблюдение. В конце войны он писал другу: «Мне постоянно кажется, что судьбу Германии олицетворяет шиллеровскии Деметрии: сначала чистый и благородный, под конец — преступный. Загадочно и в любом случае трагично. Никак не могу выбросить это из головы»{634}. Особенно зловещим образом традиционный немецкий романтизм исказили нацисты — немецкий филолог Виктор Клемперер указывал, что нацизм — это ядовитый отросток немецкой романтики, она виновата в его появлении, как христианство виновато в появлении инквизиции; романтика сделала нацизм специфически немецким явлением и отделяет его от фашизма и большевизма. Романтика нашла свое наиболее яркое выражение в расовой проблеме, которая, в свою очередь, наиболее последовательно проявилась в антисемитизме. Таким образом, еврейский вопрос для нацизма — это наиболее важный вопрос, он — его квинтэссенция{635}.
Романтические идеалы часто привлекают и наших современников. Американский историк Фрэнсис Фукуяма совершенно точно характеризовал современный культурный постмодернизм и его отражение в сознании людей: «Конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради абстрактных идей, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, — вместо всего этого экономический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя. В постмодернистский период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории… Перспектива многовековой скуки»{636}. Скука и стремление к экстремальным эмоциям в некоторых отношениях может помочь объяснить притягательность фашистоидного искусства и для наших современников, не говоря уже о немцах 30–40 гг. В те времена немцы по большей части были аполитичны и питали недоверие к политикам по причине корыстной и торгашеской деятельности партий Веймарской республики. Гитлер же предложил им спасение в искусстве и мифе. Он сам себя считал скорее художником, чем политиком; он находился под впечатлением слов Хьюстона Стюарта Чемберлена о собственной персоне: «идеальная политика заключается в ее отсутствии». Гордон Грейг подметил, что, приняв эти слова близко к сердцу, Гитлер подменил обычные прозаические цели политики грандиозной концепцией немецкого предначертания и придал эстетическое значение политическим ритуалам посредством их драматизации{637}. Степень причастности разных видов искусства к этой драматизации была различной — это зависело от того, как пропагандистская машина Третьего Рейха их хотела использовать. Даже Олимпийские игры были включены нацистами в политический ритуал, имевший целью нацистскую идеологическую экспансию. Впрочем, это не был единственный инцидент такого рода с Олимпийскими играми. В 1980 г. в Москве и в 1984 г. в Лос-Анджелесе Олимпийские игры также были политизированы и превращены в идеологическое шоу, похожее на то, что было в Берлине в 1936 г. Как только спорт из соревнования и праздничного зрелища превращается в парад престижа и часть политического ритуала, он становится своей противоположностью — отравой для души и разума.