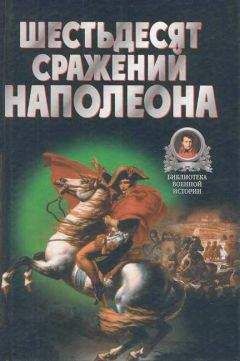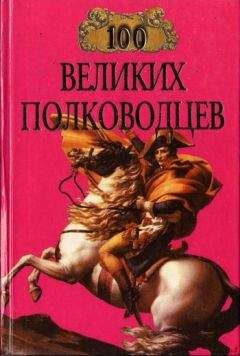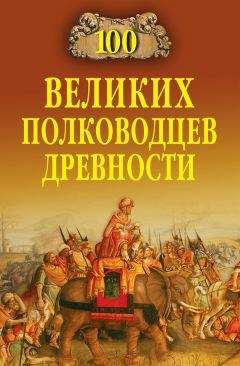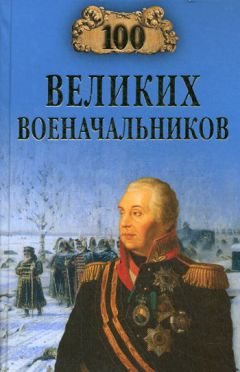Райнхольд Браун - Шрамы войны. Одиссея пленного солдата вермахта. 1945
В этом месте своего рассказа ты весело, от души рассмеялся. Ты весь был в воспоминаниях. Как по-доброму, как искренне ты тогда смеялся!
Потом ты умолк, и между нами повисла тишина. Потом ты снова заговорил, но уже тихо и печально. Прошлое снова начало развертываться в твоей памяти. Твоя жена сорвалась с каната и сломала ногу. Теперь тебе пришлось работать за двоих. Наступили тяжелые времена. Но время милостиво, нужде пришел конец, когда тебя принял под свой купол большой цирк Саразани. Ты стал клоуном, получавшим надежную зарплату. Остряк, плут, шельма — забавная крошечная фигурка на краю манежа. Была уже глубокая ночь, когда ты закончил рассказ об этой части своей жизни. Потом ты снова замолчал, Август, и я понял, что мысленно ты вернулся в то время, когда ты каждый вечер забавлял падкую на зрелища публику своими смешными репризами и остротами. Что сейчас делает твоя жена, Август? Может быть, она снова танцует на проволоке, чтобы вам не было тяжело жить, когда ты наконец вернешься домой из долгого плена? Но разве это зависит от тебя?
Настал день, когда меня отправили в карцер.
В тот раз мне удалось проскользнуть в барак к Феликсу, и я пропустил время раздачи еды. Я слишком поздно вернулся на свое место. Мою порцию уже съели. Желудок громко урчал от голода. Я страшно расстроился, но ничего не мог поделать. Однако сидеть в бездействии я не мог и напустился на подонка старосту, бывшего штабс-фельдфебеля из ВВС. Это было невероятно глупо, но я потребовал свой суп. Я вспомнил о своих правах (как будто они у меня вообще были). Успокоиться я не мог. Я высказал ему в лицо все, что о нем думал, и закончил свою филиппику недвусмысленной цитатой из «Гётца фон Берлихингена». Нетрудно было предсказать, что последовало дальше: бессильная ярость, донос начальнику блока. Вскоре после этого меня схватили. Двое лагерных полицейских потащили меня к начальнику. Им усердно помогал староста отряда.
«Подлец!» — кричал я. Я мог бы многое ему сказать, но в ответ он заорал: «Заткнись!» Полицейские подняли свои дубинки. Произнеси я еще хоть одно слово, они бы просто меня избили. Только когда полицейские снова схватили и потащили меня, я начал понимать, что происходит. Что сказал этот пес? Что он сказал? Два дня и половина рациона! — вот что он сказал. Два дня и!.. Я отказывался верить своим ушам. Меня приговорили! Кто меня судил? Какой-то ничтожный негодяй. По его приказу меня волокли в темную дыру, где голод должен был внушить мне покорность!
И этот ублюдок, этот подонок староста отряда, гнусно усмехаясь, что-то хрюкал себе под нос.
Я лежал на голом бетонном полу без одеяла, без матраца и без хлеба. Рядом со мной лежали еще три товарища, угрюмо уставившись в стены и потолок. Мне дали время подумать над моим преступлением. За те два дня, что я провел в карцере, нас ни разу не вывели на улицу. Нужду мы справляли в поставленное в углу ведро, от которого шел нестерпимый смрад. Параша была переполнена нечистотами, и мы все время старались повернуться к ней спиной. Смотреть из окна было не на что, кроме как на опротивевшую нам дымовую трубу.
Среди нас был товарищ, которого посадили на пять суток без еды. Этого обер-лейтенанта посадили за тот же проступок, что и меня. Утром нам бросали три куска хлеба. Четвертого не давали. У одного из нас должен был язык отсохнуть от голода. Обер-лейтенант безучастно сидел у стены, когда мы вгрызались в хлеб. Мы давали ему по кусочку от своей пайки. Он трижды произносил «спасибо» и снова умолкал. Когда мы получали по полпорции супа, ему давали просто воду. Надо ли мне еще раз говорить о том, что это немцы посадили его и меня в этот вонючий подвал? Надо ли лишний раз будить в себе чувство стыда и гнева? Двое других, возможно, заслужили свое наказание, так как воровали еду у товарищей. Воровали осознанно, даже если учесть страшные условия, в которых мы все находились. Но мы, мы двое, какое преступление мы совершили? Только за то, что мы — с полным на то основанием — дали волю своим чувствам, эта бесчестная и бессовестная клика по собственному произволу на несколько дней заткнула нам рот. Мы должны были прочувствовать, что правом голоса здесь обладают только они одни. О, это презренное семя! Их стоило удушить, сунуть их мордами в вонючую парашу, чтобы они задохнулись в ее отвратительных испарениях! Во мне кипел гнев и страшное возмущение. Но я сумел собраться и взять себя в руки. Обстановка требовала осторожности. В карцере я приобрел ценный опыт и научился обуздывать свои чувства.
Когда через два дня я вышел из карцера, то не мог нарадоваться свежему воздуху.
Снова начались однообразные будни, я ел скудный паек, ходил строем вокруг здания и размышлял о том, что когда-нибудь все изменится к лучшему. Уже тогда я стал подумывать о побеге. Но выскользнуть незамеченным из лагеря было решительно невозможно. Всеобщее настроение было не в нашу пользу. В стране царила ненависть, ненависть, направленная против меня, против любого немца. Мало того, я был истощен, и на мне была немецкая военная форма. Кто даст мне еду? Я не смог бы пройти Чехию, если бы мне даже удалось бежать из лагеря. Нет, разум подсказывал, что бежать еще не время.
Но мысль о побеге прочно угнездилась в моей голове и с каждым днем все больше меня занимала. Я с нетерпением ждал каждого следующего дня.
Но надо отвлечься от бед и горестей того времени и рассказать пару веселых историй из жизни пленных в Немецком Броде. Речь пойдет о мальчишеских выходках. Слева от меня на нарах спал товарищ из Верхней Силезии, отличный парень. Это был старый, проверенный кадр. Война изрядно потрепала его; он участвовал во множестве боев, был трижды ранен. Настоящий фронтовик в полном смысле этого слова. В один прекрасный день лагерной администрации потребовались двадцать человек для уборки главной дороги лагеря. Мы с ним попали в число отобранных для этого пленных. Нам достался участок возле гауптвахты. И что же мы там увидели? Маленький огороженный садик, где росли фруктовые деревья, манившие своими спелыми круглыми плодами. Мы заметили его одновременно. Потом мы сразу посмотрели друг на друга. В наших головах промелькнула в тот момент одна и та же мысль. Слова были не нужны. Мы задумались, прикидывая, что можно сделать. Но это была чистая игра ума. Вывод напрашивался сам собой: надо придумать что-то необычное. Ясно, что садик находится слишком близко от русской охраны, к тому же вокруг этого райского садика лагерные полицейские поставили ограждение. Кроме того, надо было незаметно для охраны выскользнуть из нашего охраняемого блока. Но вдруг нам повезет! Вдруг повезет! Что за крепость перед нами? Как нам полакомиться плодами? Мы же сможем — в кои-то веки — наесться досыта! Прекрасными, сочными плодами, которых мы так давно были лишены! Да! Сегодня ночью надо сделать попытку! Уже сегодня ночью!
Вечером того дня мы не спали. Мы бодрствовали, едва удерживаясь в ожидании самого безопасного часа. Было, наверное, около часа ночи, когда мы незаметно покинули здание. В призрачном свете луны мы пересекли дорогу. Мы ловко обошли все препятствия и без помех добрались до сада. Здесь уже потребовалась предельная осторожность. Русские патрули ходили совсем рядом, а колючая проволока, проходившая в непосредственной близости от садика, была ярко освещена. Но голод упрямо гнал нас вперед. Мы поставили на карту все. И что же? Скоро мы, как ночные призраки, уже повисли на ветвях самой высокой сливы. Мы с невероятной жадностью принялись есть, или, лучше сказать, жрать. Мы напряженно, а точнее, с презрением смотрели на зевающих русских солдат, стоявших у лагерной ограды в пятнадцати метрах от нас и не догадывавшихся о том, что у них под носом двое немецких военнопленных едят сливы их командира. Насытившись, мы набили сливами штанины и карманы форменных галифе и снова скользнули во тьму. Вскоре мы незамеченными вернулись в наше человеческое стойло. Добычу мы положили в мешок, который каким-то чудом сумел сохранить силезец. Этой ночью мы спали как убитые. Утром, однако, наши ближайшие соседи знали о нашей вылазке, но зависть быстро улеглась — добыча была очень велика! Свою долю получили все, посвященные в эту тайну.
Первый опыт оказался удачным!
С того времени мы стали совершать набеги на сад каждую ночь. Они вошли в привычку; мы осмелели, в наших действиях появилась даже дерзость. Сначала мы обчистили все сливы, потом яблони. Каждый раз мы подходили к русским постам на один-два метра ближе. Однако нашим наивысшим достижением стал сбор сочных груш с дерева, которое росло прямо у поста и крона которого была наполовину освещена фонарем ограды. Мы разулись. Ловко и бесшумно мы медленно поползли по земле в тени дерева. Мы ползли осторожно, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Мы внимательно следили за действиями русского солдата, и, когда он, повернувшись к нам спиной, отошел на несколько метров, мой спутник встал, я забрался к нему на плечи и принялся усердно рвать сочные, такие желанные плоды. Как только охранник поворачивался, я тотчас снова прятался в темноту, прежде чем он успевал меня заметить. Эта игра продолжалась до тех пор, пока мы не набрали столько груш, сколько смогли унести. Отступление в блок прошло без сучка и задоринки.