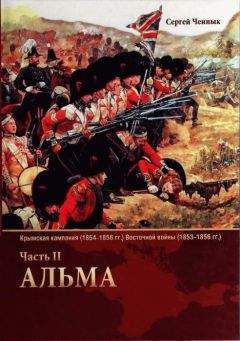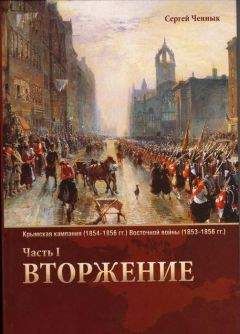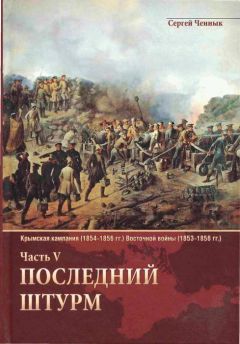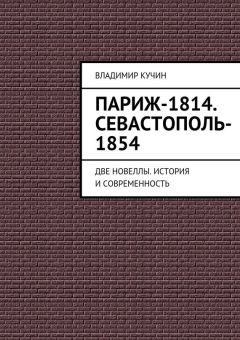Сергей Ченнык - Противостояние
Правда у старших офицеров и генералов условия значительно лучше: у них есть даже ванны и, как пишет современник, он видел даже нескольких из них в чистых белых рубахах, правда, не накрахмаленных.{832}
Есть и позитивные стороны осадной жизни. Улучшается питание, в войска начинают поступать консервы в герметически закрытых банках с разнообразным ассортиментом: «Телятина с горохом», «Вареная говядина», «Баранина с фасолью» и др. Ричардс пишет домой: «В день мы получаем 1 фунт галет, 3/4 фунта свинины или 1 фунт свежего мяса и 3/4 бутылки рома. Не много для того, чтобы прожить, может быть, скажете вы. Но мы добавляем к этому капусту, турнепс, домашнюю птицу, тыкву, арбузы и прекрасный виноград. Здоровье солдат значительно улучшилось. Иногда даже дается полакомиться медом из ульев».{833}
Появляются экзотические добавки к меню (правда, в основном, офицерскому): консервированное молоко, шоколад. Уже можно, принюхавшись, уловить тонкий запах турецкого табака. Вскоре в дополнение к традиционным трубкам появляются сигареты.
Это еще одна из многих легенд Крымской войны и я думаю, читателям будет интересно ее узнать. Слово «сигарета» французского происхождения, оно означает «маленькая сигара». Сигареты обязаны своим происхождением американским индейцам, которые первыми стали заворачивать табак в солому, тростник и кукурузные листья. Но современная практика их курения возникла в Испании и странах Средиземноморья в начале XIX в., а массово распространилась во время Крымской войны в 1854–1856 гг. Британские солдаты переняли привычку к курению сигарет у русских и турецких солдат, которые чтобы покурить на привале, марше, в траншеях или в пикетах, стали заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха либо обрывки газет. Вскоре в Англии было налажено их массовое производство. Первая сигаретная фабрика в Европе была построена в Лондоне.{834}
Английский линейный корабль «Альбион» на ремонте после боя 5(17) октября 1854 г. Вторая пол. XIX в.Конечно, это изобилие происходило не из военных рационов. Вечно крутившиеся возле военных администраций торговцы быстро смекнули о возможности нажиться на войне и, используя корабли, сумели наладить отличное снабжение армии и флота в Крыму, продавая все, что можно, по таким ценам, которые в Англии никому не могли даже в голову прийти. А так как офицерам платили хорошо, деньги тратить было больше некуда, то за ветчину охотно платили 2 фунта 17 шиллингов, по 3 шиллинга за фунт соли, по 5 шиллингов за фунт мыла, по 1 шиллингу 3 пенса за свечи, 1 шиллинг за хлеб, 10 шиллингов за бутылку шерри и 1 шиллинг за унцию табака.{835}
В лагере царит почти покой, который иногда нарушают прилетающие с русских батарей снаряды, но к этому вскоре привыкают тоже. Больше раздражают англичан доносящиеся из турецкого лагеря «…звуки труб, далекие от гармонии, которые можно было назвать музыкой лишь при наличии достаточного воображения».{836}
Каждое утро офицеры поднимаются, завтракают и отправляются на свои участки. Самым нелюбимым делом становится служба на пикетах, но она хотя бы не такая монотонная и позволяет видеть русских, активно укрепляющих крепость. Это настораживает британцев. Уже никто не верит в бред польских дезертиров, что русские дезорганизованы, что Меншиков после Альмы впал в панику, что победу англичане могут одерживать отныне одними штыками. Их поражает вид постоянно тренирующихся защитников Севастополя, а то, что они сделали за несколько недель, демонстрирует их готовность упорно драться за город и крепость.{837}
Вскоре ранняя осень с ее влажной погодой и низкими температурами начала сказываться, и число больных в обеих армиях стало тревожно возрастать. В октябре пришлось дополнительно открыть госпитали в Константинополе. У французов там уже был один — «Долма Бакши», но до конца месяца потребовались еще два: в Рамис-Чифлике (на 1200 чел.) и недалеко от Перы (на 400 чел.).{838}
Хлынувшие в Крым чиновники Военного комиссариата, вместо того, чтобы наладить более или менее сложившееся снабжение войск, в несколько недель развалили его. Лейтенант Ричардс уже не восхищается, скорее он возмущен: «Этот чертов Комиссариат превратил несколько оставленных жителями домов в склады, как они их называют. Если вы хотите там что-нибудь получить, то встречаете на складе тылового офицера Джонса, Смита или Робинсона, курящего сигару (которая наверняка предназначалась для армии и которую он, конечно, украл), и он вам заявляет, что, к сожалению, искомое имущество находится где-то на складе, но у него сейчас нет времени на поиски».{839}
Рай превращался в ад. Зловоние доходило до расположения войск, вода у берега становилась похожей на мутную жижу. Становилось с каждым днем холоднее и солдаты практически перестали снимать верхнюю одежду. Былой блеск исчез. Один из офицеров писал домой: «…мой мундир превратился в лохмотья, обувь износилась, но мы все выглядим одинаково».{840}
ПЕРВЫЕ ВЫЛАЗКИ
Любой, кто занимается изучением Крымской войны, часто встречается с этим словом — вылазка. Объяснить его не трудно, ибо смысл в самом названии: выход части войск из осажденного укрепления для нападения на осаждающего неприятеля.{841}
Задачей вылазок является, прежде всего, замедление осадных работ. Чтобы крепость держалась, нужно было, как можно дольше держать неприятеля на расстоянии, ибо «…к несчастью для крепости и ее гарнизона, каждый шаг, приближающий атакующего к центру крепости, сопровождается новыми, благоприятными для него факторами».{842}
В Севастополе этого добивались днем огнем артиллерии, ночью — атаками на закладываемые траншеи, когда «…высылаемые из города малые отряды и охотники тревожили противника в траншеях».{843}
В этом «тревожили» еще один коварный смысл подобных акций — изматывание неприятеля, принуждение его к постоянному страху. Ни у кого не было желания v-видеть внезапно падающих на голову русских матросов или солдат, пришедших не с самыми лучшими намерениями и уж, конечно, совсем не в гости. Тем более, что блеск холодной стали может стать последним, увиденным в этой жизни. Шанс сдаться в плен — минимальный, можно просто не успеть. Пленных сильно не стремились брать. Штабс-капитан А. Акулевич: «…Неподражаемо храбры наши охотники — с нетерпением ожидали вылазки, брать пленных не любили…».
Лекарство тут одно — бдительность. В результате требовалось все больше и больше людей выделять для охранения, таким образом, сокращалось время отдыха, личный состав уставал и приходил в уныние. Пример тому слова французского лейтенанта Варэня, описывающие состояние офицера в эти дни: «Октябрь оказался очень тяжелым месяцем; 9 дней подряд я провел без отдыха; каждый раз после смены караула в траншеях я заступал на дежурство по осуществлению инженерных работ».{844}
Похожее говорит Монтодон: «…на передовых постах, в засадах происходят частые стычки с русскими; последние себя показывают неустрашимыми и весьма агрессивными…».{845}
Едва союзники начали осадные работы, русские немедленно ответили внезапными нападениями на работавших по ночам саперов и пехотинцев. Задача облегчалась тем, что, как правило, те шли в траншеи безоружными, только с шанцевым инструментом.{846} Прикрывавшие их подразделения в первые дни были не особенно бдительными, и потому акции русских, проводившиеся под прикрытием темноты, часто имели успех. Сами англичане в первое время понимали, что слабое внимание в ночное время, было настолько повсеместным, что только «…благодаря провидению мы не попали в плен».{847}
Это была тоже классика позиционной борьбы за укрепленные позиции. Парадокс ее состоял в том, что обороняющиеся и атакующие иногда менялись ролями. В борьбе за передовые позиции нужно было драться за каждый метр, драться постоянно, мешая противнику, уничтожая его работы, оттесняя дальше от свои передовых линий.{848}
Действуя таким образом, и понимая, что таким путем осадные работы не остановить, русские стремились их максимально замедлить. Захватывался шанцевый инструмент, что нельзя было унести — уничтожалось. Качественные английские кирки и лопаты впоследствии очень даже пригодились для защитников Севастополя, так как «…на работах при каменистом грунте, наш шанцевый инструмент, столь красивый на инспекторских смотрах, оказался мало пригодным». Вот и «… только и можно было работать инструментом, добытым от неприятеля».{849} Розин в грустном констатировании удручающего состояния отечественного шанцевого инструмента не одинок. Парадный лоск имел приоритетный смысл в ущерб качеству, но на пользу всепоглотившей коррупции: «Весь полковой инструмент русских содержится на складах, дабы предъявить, когда потребуется, но никак не для использования по назначению: ежегодно его подкрашивают, а в карманах полковника оседает определенная сумма на починку и обновление. Когда же дело доходит до использования, он уже бесполезен. В моей роте солдаты разбили весь инструмент после трех дней работ, вследствие чего мы были обязаны достать другой инструмент, получше».{850}