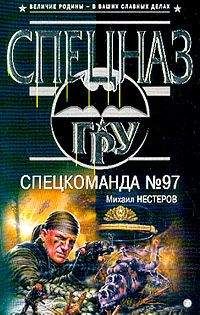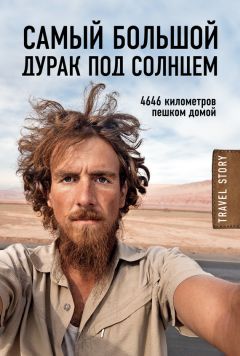Сергей Ченнык - От Балаклавы к Инкерману
Точно так же, как план Кутузова не понимали не только враги, но и не поняли при дворе и даже в армии, точно так же Меншикова не понимали в столице и не любили в Крыму.
7(19) октября 1854 г. с последними выстрелами орудий по Севастополю, «отсалютовавшими» в честь достижения ничтожных результатов при громадных затраченных усилиях, к союзникам пришло осмысление случившегося. Солдаты и офицеры с горечью констатировали прискорбный факт крушения надежд на скорое завершение войны и триумфальное возвращение на родину с лаврами победителей.
Даже у французов, где недавно царило граничащее с эйфорией воодушевление после Альмы, когда армия впервые после унизительного поражения при Ватерлоо одержала победу над европейским противником, заметно поменялось настроение. В союзных штабах заметно приуныли.{46}
Осень принесла союзникам не только холодные ночи, но и разочарование, связанное с затянувшейся кампанией, совершенно не похожей на те колониальные войны, которые Англия вела почти сорок лет спустя после победы над Наполеоном. Сказать, что моральное состояние войск было нормальным, нельзя.
Балаклава. Дом коменданта базы. Фото Р. Фентона. 1855 г.Уже никто не тешил себя надеждами, что все закончится быстро, а «увядший» после победной Альмы девиз «Севастополь — за неделю» выглядел совсем уж издевательски. Всегда оптимистичный командир 4-го легкого драгунского полка Педжет вдруг начинает говорить о разочаровании: «…Слишком холодно даже для того, чтобы писать письма. Держать ручку в толстых перчатках очень неудобно. Мы все находимся в полном неведении в отношении дальнейших событий. Каждый день слышим, что наступление начнется завтра».{47}
Майор Кармайкл из Дербиширского полка, правда, тоже сохраняя остатки былого оптимизма, констатировал: то, что ждет их впереди, уже «…не будет быстрым и легким делом, ожидавшимся столь малохлопотным».{48}
Другой майор, только французский, командир батальона пеших егерей Монтодон, также в раздумьях. Он, как и другие офицеры, не знает, чего ждать дальше: «…придется нам оплакивать новые катастрофы или услышать приказ о штурме…».{49}
Храбрый командир 2-го полка зуавов полковник Клер пишет во Францию, что момент, выгодный для взятия Севастополя, был упущен еще в конце сентября, когда войска находились в состоянии эмоционального подъема после победы на Альме.{50}
Эти трое не одиноки. И во Франции, и в Крыму все популярнее мнение, что будь жив Сент-Арно, Севастополь давно бы уже пал, а нынешнее командование страдает хронической нерешительностью.{51}
Приуныли все и серьезно. Если прежде говорили, что осада займет от восьми часов до трех дней, то теперь в офицерских кругах обсуждали не то, как скоро возьмут город, а то, как скоро им удастся вернуться домой, если они его не возьмут. Морские офицеры, принявшие и выигравшие пари у тех, кто обещал взять город в течение суток, предлагали новые пари, продлив срок овладения городом до одного месяца.{52} Наивные, они даже не могли предполагать, что их круиз в Крым затянется больше чем на год, а многие уже никогда не вернутся обратно.
Всегда жизнерадостный ирландец журналист Рассел писал в своем дневнике из Крыма: «Мы все начали уставать от беспрерывного буханья, от которого было очень много шума и очень мало результата, кроме, разумеется, перевода пороха. Штатская братия, сопровождавшая армию, пришла в уныние. Но, как говорится, Рим не сразу строился, и Севастополь нельзя было покорить за неделю. Когда мы открывали кампанию, он виделся нам некоей гипсовой декорацией, которая, словно стены Иерихона, обрушится от одного только грома наших пушек. Пришедшая из Англии «новость» о взятии Севастополя вызвала на позициях лишь досаду и горькие насмешки. Армия была в возмущении. Все понимали, что взятие если когда-то и состоится, то отнюдь не будет иметь того радужного вида, какой придали ему тыловые фантазеры. Опасались и того, что альминские лавры увянут в свете вымышленной победы. Осмелюсь утверждать, что на родине плохо представляли себе и нас, и наше положение»,{53}
Бахвальства о набитой русскому медведю морде прекратились. Вспоминали их разве что с плохо скрытым стыдом. Зато в союзном лагере часто стала звучать фамилия Тотлебена с упоминанием его не иначе как гения фортификации.{54}
Обострились проблемы, ранее на фоне потока победных реляций бывшие не столь заметными. Англичане обвиняли в проблемах французов, те, в свою очередь, в долгу не оставались. В первую очередь это касалось взаимного доверия. Раглан, и без того недолюбливавший союзников, понимавший их вину в неудаче бомбардирования, отныне испытывал постоянное чувство беспокойства по поводу их надежности.{55}
В свою очередь, французы, помнившие, как застряли англичане на Альме, не столь откровенно, но платили «братьям по оружию» той же монетой: «…союзники со вчерашнего дня, а враги вечные», — говорили офицеры.{56}
Сардинский лейтенант Говоне, околачивавшийся при союзном штабе и уже скоро от скуки сходивший в атаку вместе с несчастной Легкой бригадой, писал о взаимоотношениях в лагерях контингентов:
«Никакого сотрудничества и единства не существует ни между посланниками, ни между руководителями… Главное преимущество английской армии — стойкость, но она сама признает, что значительно хуже французской в военном искусстве. Наоборот, французы поражают англичан своим запалом, и хотя они не отличаются пассивной стойкостью, однако компенсируют ее удивительным умением…».{57}
Балаклава. Фото Р. Фентона. 1855 г.Французы лишний раз убедились, что англичане, будучи в бою стойкими и надежными бойцами, вне боя превращались в совершенно беспомощных людей, которые с трудом могли обустроить свой быт. Камил Руссе приводит как пример удивление французов, что английские солдаты, получая мясную порцию большую, чем французские, умудрялись голодать. Привыкшие к сносным условиям службы в колониях, британские пехотинцы оказались совершенно неготовыми к условиям большой войны.{58}
Виной тому был отмечаемый многими природный индивидуализм англичан. В отличие от них французы все делали сообща, строго распределяя роли и точно следуя своим обязанностям не только в сражении, но и в условиях лагерной жизни.{59}
Англичане не могли не заметить, насколько снисходительно стали относиться к ним французы после победной Альмы и последовавших за ней неудач. Британский штаб был в возмущении, когда узнал, что в первых докладах императору французское командование просто игнорировало роль английских генералов в сражении.{60}
Конфронтация с межнационального спустилась на внутриармейский уровень. Хибберт пишет, что «…атмосфера всеобщей неопределенности и страха сделала людей раздражительными. Настроение менялось мгновенно. Рушилась дружба. Вражда перерастала в настоящую вендетту. Неприязнь превращалась в ненависть. Солдаты во всем обвиняли офицеров, те, в свою очередь, генералов. А генералы во всем винили друг друга».{61}
Одни лишь турецкие солдаты спокойно взирали на обострившиеся распри своих «спасителей», предпочитая довольствоваться ролью сторонних наблюдателей. Могло показаться, что по сути разгоревшаяся из-за них война их как раз меньше других участников занимает. Турки сами не предполагали, что вскоре случившееся сделает османских солдат героями битвы за Севастополь.
Не лучшим образом сказывалась усталость. Осадные работы требовали огромного напряжения сил и почти полного привлечения для их выполнения личного состава.
Только в 1855 г. союзники поняли, что эта война оказалась совсем не такой, к каким они привыкли и на какую рассчитывали. Генерал Пелисье писал Императору Наполеону III: «…Это не такого рода война, где битва сменяется битвой… Тут нужно терпеливое железное мужество, которое без веры, без надежд ежеминутно видит смерть, просто в глазах, день за днем, месяц за месяцем, в постоянном труде и невзгодах. Тут нужно не запальное геройство, которого едва хватает на двухчасовую битву в открытом поле, а сконцентрированное постоянное геройство, которое не знает ни отдыха, ни усталости».{62} Английские солдаты с трудом выдерживали тяготы круглосуточного изматывающего труда. Рассел признавал: «…Как работники наши солдаты не равняются французам и далеко уступают русским. Наши инженеры сетовали, что хорошо работают только гвардейцы и некоторые части Стрелковой бригады, а ирландские и шотландские полки не умеют держать в руках шанцевый инструмент. Но работы, необходимые при строительстве апрошей и укреплений, под силу лишь бывшим крестьянам, привыкшим к лопате и кирке. Пастухи, подручные рыболовов и охотников, танцовщики с саблями, егеря, охотники на красного зверя, косари, подносчики кирпичей, мастеровые и разнорабочие, как бы сильны, проворны и ревностны они ни были и из какой бы местности ни происходили, не могут управляться с инструментами, которые дают им саперы и минеры. Весьма желательно было бы учить обращению с шанцем части, которые могут быть задействованы на земляных работах. Не старина ли Тюренн сказал, что «лопата выиграла больше битв, чем мушкет»? Мы воевали лишь штыком да мушкетом и, конечно, понесли большие потери и нередко оказывались в невыгодном положении из-за того, что не могли подойти на 200 метров к Редану, в то время как французы подобрались вплотную к засеке Малахова кургана и остановились в 25 метрах от парапета. Наши славные союзники действительно могли больше людей отрядить на работу и больше их потерять в апрошах. О том, что труд их был нелегок, а потери непустяшные, говорит тот факт, что за время осады они потеряли не менее 64 инженерных офицеров, из которых 30 были убиты».{63}