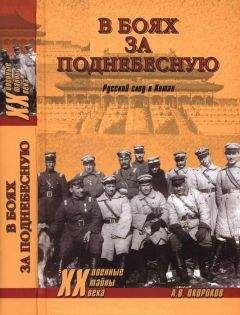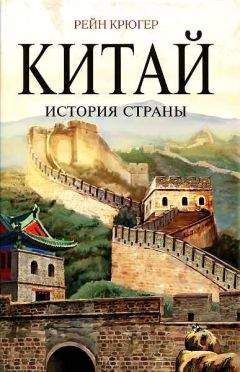Александр Бобров - Брусиловский прорыв
Таким образом, в своем описании событий 30 июля Шолохов постарался, во-первых, опошлить (?! — никакой пошлости в энергичном описании не видно. — А.Б.) и принизить героический неравный бой казаков с немцами, превратив его в бессмысленную свалку ошалевших от страха людей, во-вторых, сделал этот бой как можно более “коллективным”, отдав “руководящую роль” Астахову и фактически приписав ему победу над немцами, а командира разъезда Крючкова опустив до уровня рядового, ничем не примечательного участника боя. А в-третьих, завершается романная версия событий 30 июля 1914 года следующим пассажем: “А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать руку на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе, натыкались, ошибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей, и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъезжались, нравственно искалеченные. Это назвали подвигом”. Комментировать этот явно написанный в подражание Льву Толстому фрагмент текста даже не хочется. В таком духе можно опорочить любое героическое деяние».
Ну, так и в духе Бондаренко можно любого русского гения упрекать на каждом шагу — ведь и Льву Толстому тоже за описание Аустерлицкой и Бородинской битв доставалось: то не так, этого не отразил.
А дальше начинается чистая идеология, столь яростно врывающаяся сегодня во все повествования: «Встает вопрос: зачем же понадобилось безусловно талантливому Михаилу Шолохову (спасибо хоть за признание таланта. — А.Б.) клеветать на покойного к тому времени казака и излагать читателю чрезвычайно подробную, но притом ложную версию реальных событий?.. Ответ очевиден: Козьма Крючков был наиболее известным, хрестоматийным русским героем Первой мировой войны, своего рода символом героизма Русской Императорской армии. Его имя в 1928–1932 годах (время первой журнальной публикации романа) еще помнило множество людей, да и казаки, знавшие семью Крючковых лично, еще жили на белом свете. Но после революции Крючков занял “не ту” сторону, да и вообще принадлежал к ликвидированному как особое сословие казачеству, которое в начале 1930-х если и упоминалось, то исключительно в качестве “опоры царизма” и “душителей революции”. Так что положительную легенду о “хорошем казаке”, Крючкове-богатыре, в одиночку уложившем 11 немцев, требовалось развенчать, заменить легендой отрицательной. А от развенчания конкретного героя всего один шаг до развенчания самого события — Первой мировой войны: если уж “самый главный” герой этой войны оказывается вполне заурядным, а подвиг его — придуманным, то каковы же были все прочие герои и подвиги?.. Именно затем Шолохов и уделил в “Тихом Доне” столько места событию, никак не связанному с основным сюжетом романа. К тому же у него наверняка были “личные счеты” с Крючковым. Ведь свой первый и последний офицерский чин тот получил не за что-нибудь, а за бои с красными во время восстания в родной станице Шолохова — Вешенской.
Надо сказать, что усилия Шолохова по развенчанию образа Крючкова увенчались успехом. Достаточно сказать, что в советской литературе легендарный казак если и именовался героем, то только в ироническом, издевательском смысле, а само слово “герой” заключалось в кавычки. И печальнее всего даже не то, что ложное описание событий 30 июля 1914 года обречено на бесчисленные переиздания (из песни слова не выкинешь, из “Тихого Дона” — тем более), а то, что шолоховская злая выдумка до сих пор принимается многими за истину в последней инстанции и тем самым подменяет историческую реальность».
Уж тут столько несправедливого нагорожено: выходит прямо, что развенчать Крючкова — одна из главных задач романа, что великий и трагический образ Григория Мелехова вообще не мог родиться под пером Шолохова: ведь Гришка не только за красных воевал, но и за белых, как Крючков, а Вешенскую кто только тогда ни брал и ни разорял: со всеми счёты сводить устанешь. Гений отбирает те эпизоды и действия героев, которые позволяют нарисовать грандиозную и художественную эпопею. А ироническое отношение, как мы видим из письма Герасимова, сложилось за 12 лет до «злой выдумки» Шолохова, до начала публикации «Тихого Дона». Ну, не принимали русские офицеры буколического образа первого георгиевского кавалера, которого заваливали дорогими подарками, рисовали на лубочных картинках с пикой и десятью немцами на ней (у Бондаренко — 11), пытались увековечить в песнях, брошюрах даже на эстонском языке, полоскали в куплетах. Бондаренко пишет: «Подвиг донца задорно воспевался и в частушках:
Ай да ловко! Это дело!
Немцам здорово влетело!
Вся Германия в конфузе
От геройской битвы Кузи».
Хочу заметить автору, так упрекающего Шолохова, что это — не частушка, а топорная подделка. Прямо уж «вся Германия в конфузе»… Такие образованные прапорщики, как Герасимов из Коврова, подобной разлюли-малины просто не принимали: ведь информационных технологий и зомбирующего телевидения не было и в помине, и пиар существовал в примитивной форме, которой на дух не принимали русские интеллигенты начала века.
Вот, например, 2-е незаконченное письмо, найденное в бумагах покойного и привезенное денщиком, которое рисует образ православного, тонко чувствующего и мыслящего человека:
«Дорогие мои!
Шлю вам привет с веселым весенним праздником — Пасхой. Сильно запоздал он — этот привет, и хотя, я думаю, — не по моей вине, но все же я об этом страшно жалею. Надеюсь, что хоть моя открытка пришла вовремя и сгладила отчасти мое отсутствие. Как мне хотелось, чтобы оно не сильно чувствовалось вами, как мне хотелось дать вам знать, что этот праздник я встречаю хорошо и весело, насколько может только быть весело вдали от дома.
Это письмо я хотел написать вам день на 3-й или на 4-й после Пасхи, когда кончится праздник и начнутся опять наши трудовые будни; хотел дать вам описание нашей “Пасхи на позициях” — и вот, мог сделать это только теперь.
Но начну я лучше по порядку.
Итак: нашему батальону не везет на праздники. Как вы знаете, мы встретили на позиции Рождество, Новый Год, Масленицу… Выпадал черед стоять нам на позиции и Пасху. (Должны были смениться день на 4-й—5-й, простояв на позициях около 40 дней.) Но тут нам привалило счастье: незадолго перед Пасхой начали ходить глухие слухи, что полк наш сменяется и переходит на новую стоянку и, кажется, в резерв. Понемногу слухи стали определеннее и, наконец, нам точно заявили, что за 3 дня до Пасхи мы уходим верст за 12 к северу отсюда — в корпусной резерв. Отдых этот (но, конечно, не безделье) был вполне заслужен нами. Всю зиму мы работали, как машины, и в праздники, и в будни. Если бы вы видели, какие города из светленьких, благоустроенных землянок выросли у нас за это время, какие перекинулись мосты через ручьи и речки (мосты часто в 250–200 шагов длиною), какие бревенчатые мостовые на целые версты изрезали вдоль и поперек позицию через наши зыбучие болота.
Идешь, бывало, на позицию, верстами утопая в грязи, а через месяц, как в сказке, уходишь с нее по гладкой мостовой. А командир сменяющей нас роты резервного батальона, трудами которой выросла среди болота мостовая, дивится на позицию: “Черт знает, — стоял здесь прошлый раз, — были одни только неважные окопчики, а теперь откуда-то уж и вторая линия взялась, и ходы сообщения, и хорошие землянки, и убежища, и баня!”
Отвечаешь со спокойной гордостью: “А Вы как думали? И мы ведь тут недаром простояли”. Да, мы недаром простояли зиму. Немножко даже было жаль покидать участок нашего полка. Но все же время было отдохнуть.
Пора было дать отдых нервам, как-никак, натянутым беспрерывно на позиции, позаняться с солдатами, подтянув их, и придать строевой вид, хорошо было и отвыкнуть немного от надоевшего, то злого, то печального посвистывания пуль.
И вот пришел день смены. В 3 ч. утра нас заменил батальон другого полка, а наш батальон отошел в селение, где стоял наш полковой резерв.
Там уже понемногу собирался весь полк. Солдаты ели ранний обед, а мы, товарищи-офицеры, пили чай и оживленно болтали. (Ведь в условиях позиционной жизни, служа в одном полку, не видишься друг с другом по нескольку месяцев.)
Утро встает ясное, солнечное. Картина бивака оживленная и жизнерадостная. Синеют дымки походных кухонь, зеленеют по-весеннему сосны; везде живописные группы солдат, ряды винтовок в козлах, мешки и скатки. Издали доносятся медные звуки полкового оркестра: несут знамя. “Встать! Смирно! Господа офицеры!” — раздается команда полкового командира. Наскоро приводим ряды солдат в порядок и застываем: знамя уже между нами… Время трогаться в путь. Впереди движется знамя с своим прикрытием, а за ним длинной гусеницей вытягивается рота за ротой в узкой походной колонне.
Солдаты весело шагают под музыку, лошади под нами (мы, конечно, верхом) танцуют и порываются вскачь.