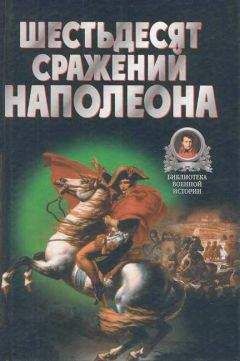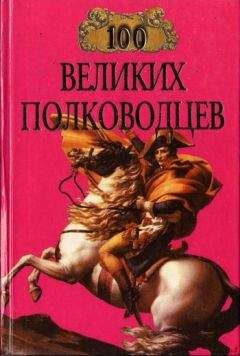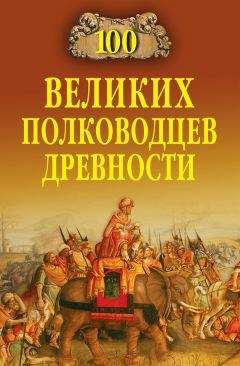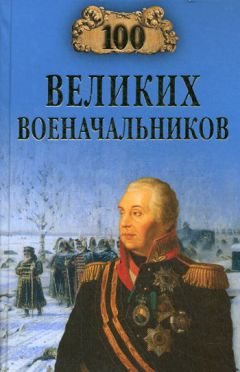Райнхольд Браун - Шрамы войны. Одиссея пленного солдата вермахта. 1945
Позже мне удалось раздобыть такую консервную банку, и она верой и правдой служила мне все время, что я пробыл в плену. Человек, не переживший ничего подобного, едва ли сможет понять, насколько ценным и незаменимым может стать такой пустяковый предмет, как старая ржавая консервная банка. Тем, кому потом, когда голод стал по-настоящему невыносимым, так и не удалось раздобыть какую-нибудь емкость, грозила голодная смерть. У такого бедняги не было шанса, быстро покончив с порцией, зачерпнуть со дна бочки еще немного супа. Да, это было. Кому-то доставалось больше, а кто-то, недоедая, становился все слабее и слабее. Три четверти литра водянистого супа на обед и три четверти на ужин. Помимо этого мы получали 400 граммов хлеба. Но и этот скудный рацион мы стали получать регулярно лишь через несколько недель. Вначале супа не хватало. Каждому доставалось по неполной банке. Один ломтик хлеба на целый день. Лишь со временем ломтики стали толще, и мы стали чувствовать, что жуем хлеб. К нашему стыду надо признаться, что очень скоро многие из нас превратились в голодных зверей, готовых на все за кусок хлеба.
В толках и пересудах прошел первый день. Мы снова, как щенки, улеглись на землю, моля Бога, чтобы с небес не закапал дождь. Бог смилостивился над нами. Но днями Бог немилосердно сжигал нас своим солнцем. В полном отупении мы сидели на земле, изнемогая от невыносимой жары. На лугу не было ни единого деревца, в тени которого можно было бы укрыться от палящего солнца. Не было ни одного прохладного места, ни дуновения свежего ветерка. Русские приказали нам остричь друг другу волосы. Нам раздали ножницы, которые одна группа передавала другой. «Лысых» становилось все больше и больше. Через несколько дней острижены были все. Мы стали чужими друг другу, изменившись до неузнаваемости. Таким странным способом нас сделали одинаковыми. Мы негодовали, но что мы могли поделать? Теперь нас попросту заклеймили. Нам стало окончательно ясно, что мы стоим на пороге страшного времени, и никто не мог оценить масштаб ожидавших нас бед. По беспомощной толпе пленных постоянно циркулировали самые невероятные слухи, лишавшие нас остатков способности к здравым суждениям. Водоворот взглядов, мнений, догадок и страхов сбивал с толку и пугал. Со всех сторон доносились самые разные сведения, новые решения, самые невероятные толкования неясных событий. Но, несмотря ни на что, мысли о скором возвращении домой продолжали кружить наши стриженые головы, смятенный дух порождал самые немыслимые умозаключения, питавшие безумные грезы. Но действительность предъявляла нам свидетельства, от которых мы не могли отмахнуться. Вскоре из уст в уста стали передаваться слухи, жалившие нас, как злые осы: нас отправят в Сибирь, на каторжные работы и на много лет. Мы смирились против воли, но лишь немногие смогли сохранить хладнокровие.
Вскоре русские внесли в этот вопрос окончательную ясность.
К лагерю подъехал грузовик с громкоговорителем, и нам — сквозь треск несовершенного динамика, но достаточно громко — была объявлена наша дальнейшая судьба. Это был первый и единственный раз, когда наши хозяева сказали что-то о нашем будущем. Говорил какой-то тип из так называемого комитета «Свободная Германия», бывший майор и кавалер Рыцарского креста. В этой речи бесконечно повторялась до сих пор звучащая в ушах фраза о коллективной вине нашего народа. В конце бывший майор объявил, что, согласно праву и справедливости, мы отправимся в Россию. Своим трудом мы будем должны возместить тот ущерб, который причинили советскому народу.
Вопреки нашим ожиданиям нас еще довольно долго продержали в Пацове. Правда, за это время мы поменяли луг. Построив в длинную колонну, нас увели со старого места на новый участок голой земли. Он был окружен тремя рядами толстой колючей проволоки, но у него было одно неоспоримое преимущество — посередине нового лагеря протекал глубокий — по колено — ручей. Мы по-прежнему проводили круглые сутки под открытым небом. Мы стали стадом, загнанным за колючую проволоку, и я часто поражался долготерпению животных. Я перестал задумываться о будущем и не вспоминал прошлое. Только так можно было выдержать плен — стать такими же, как животные.
Начавшийся период дождей заставил нас прилежно поработать. Преодолевая свинцовую усталость, мы выкопали в земле ямы и покрыли их хворостом, эти норы стали нашими убежищами, нашим жильем. Конечно, все это было не так просто, и, собственно, осуществить такое строительство мы смогли только после того, как нас стали выводить на работу в лес, откуда мы могли приносить строительный материал. Потом нам сообщили план работ — нам предстояло построить на этом месте ряд грубо сработанных землянок. Для какой цели — нам не сказали. Нас выводили в лес, там мы валили деревья, очищали их от сучьев, а затем волокли на огороженный колючей проволокой луг. В лагере уже другие пленные рыли громадные ямы и обкладывали бревнами стены. Когда шел дождь, мы промокали до костей, когда светило солнце, мы потели в этих землянках так, что пот тек ручьями. Ночами мы сильно мерзли, а утром были оцепеневшими, как жуки, медленно оживающие при свете дня после холодной ночи. Дни шли за днями — пустые и бессмысленные. Если группу в какой-то день не выводили на работу, то люди сидели перед своей землянкой и ждали того счастливого момента, когда можно будет наполнить консервные банки невообразимым супом. Это были благословенные минуты. Однако жадность, алчность буквально носились в воздухе вокруг бочек, в которых кипел суп. Многие завистливыми взглядами смотрели на порцию хлеба товарища. Слишком часто в людях просыпался дикий зверь. Я вспоминаю безобразные сцены, когда люди били друг друга в кровь из-за того, что кто-то украл у товарища пайку хлеба или обманул его при раздаче. Вскоре мы соорудили из колючей проволоки клетки, куда сажали воров на всеобщее обозрение.
В такой атмосфере люди, сильные духом, не могли не восстать против разгула низменных страстей и инстинктов. Это самые волнующие и трогательные воспоминания моей жизни. Я и сейчас вижу, словно наяву, как посреди бед и горестей возник кружок людей, воля и поступки которых преградили путь сорвавшимся с цепи низости и подлости. Неожиданно оказалось, что среди нас есть люди, которые хотели остаться людьми и сохранить верность родине — пусть даже обесчещенной и опозоренной. В разных частях лагеря стали возникать небольшие культурные группы, часто очень малочисленные. Эти группы, эти маленькие ячейки, изо всех сил противостояли всеобщему оскудению. Создавались кружки по интересам, в которых обсуждались исторические, естественно-научные и прочие проблемы. В этих группах организовывали встречи, на которых люди старались поддержать свой дух или поговорить о по-настоящему серьезных вещах. Именно в то время я познакомился с друзьями и товарищами, которых не забуду до конца своих дней. Вот лишь некоторые имена, которые никогда не изгладятся из моей памяти: Людвиг, актер из Вены, Герд — истинный почитатель муз, всегда находившийся в хорошем настроении Феликс и весельчак Ганс.
Нам приходилось жить и общаться среди тупой, равнодушной массы. Вскоре мы стали неразлучны и встречались каждый день. Мы говорили о множестве разных вещей, духовно и интеллектуально обогащая друг друга. Да, мы смеялись и радовались, стараясь духом отвлечься от суровой и грозной действительности. В скором времени мы начали разыгрывать театральные спектакли, декламировать баллады, всплывшие в памяти, или делать доклады об искусстве и наших немецких поэтах. Свои выступления мы проводили на открытой сцене, которую сколотили из сосновых досок на свободном от человеческих испражнений участке лагерного луга. Скоро мы стали лагерными знаменитостями, и вечерами, всякий раз, когда мы объявляли о предстоящем представлении, к самодельной сцене стекались большие группы пленных. Но самым лучшим было наше общение, и, честно говоря, если бы какой-нибудь сторонний наблюдатель посмотрел на нас в этот момент, то едва он смог бы догадаться, что эти стриженные наголо, небритые люди с обветренными лицами, больше похожие на уголовников, говорят о прекрасных и возвышенных вещах. Внешность наша была ужасна — грязь, пыль, вши. Постоянный голод начал сильно отражаться на внешности. Но дух наш парил выше, чем в первые дни плена. Я не могу сейчас описать нашу тогдашнюю жизнь во всех подробностях, скажу только, что именно тогда в моей душе открылся источник, который не иссяк до сих пор. Что еще могу я рассказать о лагере в Пацове? Надо ли рассказывать о жертвах и ужасах, воспоминания о которых до сих пор терзают мою душу? Надо ли писать о том, как много было среди нас больных, не получавших никакой помощи? О том, как они, скорчившись от страданий, валялись в грязных землянках? Надо ли писать о тифе, унесшем множество жизней? Вспоминать ли о том, как расстреливали пленных, осмелившихся приблизиться к колючей проволоке? Стоит ли говорить о страшном голоде? Нет! Я хочу похоронить эти картины в глубинах памяти, ибо на фоне всех этих страданий тем ярче сияло солнце нашей дружбы, нашего товарищества, помогавшего преодолевать все невзгоды.