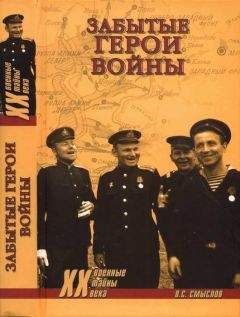Елена Сенявская - Психология войны в ХХ веке. Исторический опыт России
В русской армии таким боевым кличем издавна было «Ура». Вот как описывает момент штыковой атаки участник Первой мировой войны В. Арамилев: «Кто-то обезумевшим голосом громко и заливисто завопил: „У-рра-а-ааа!!!“ И все, казалось, только этого и ждали. Разом все заорали, заглушая ружейную стрельбу… На параде „ура“ звучит искусственно, в бою это же „ура“ — дикий хаос звуков, звериный вопль. „Ура“ — татарское слово. Это значит — бей! Его занесли к нам, вероятно, полчища Батыя. В этом истерическом вопле сливается и ненависть к „врагу“, и боязнь расстаться с собственной жизнью. „Ура“ при атаке так же необходимо, как хлороформ при сложной операции над телом человека»[165].
Страх является одной из форм эмоциональной реакции на опасность. Не существует страха абстрактного, страха вообще. Страх бывает перед чем-то, в определенной конкретной ситуации. При этом для человека в экстремальной обстановке характерно чувство доминирующей опасности, обусловленное оценкой создавшегося положения, и часто то, что казалось опасным минуту назад, уступает место другой опасности, а следовательно, и другому страху. Например, страх за себя сменяется страхом за товарищей, страх перед смертью — страхом показаться трусом, не выполнить приказ и т. п. От того, какой из видов страха окажется доминирующим в сознании воина, во многом зависит его поведение в бою[166].
Иногда страх вызывает у человека состояние оцепенения, лишает его самообладания, провоцирует неадекватное поведение; в других случаях, напротив, заставляет мобилизовать волю, напрячь усилия, активизировать боевую деятельность. «Есть страх, который у человека парализует волю полностью, а есть страх иного рода: он раскрывает в тебе такие силы и возможности, о которых ты раньше не предполагал»[167]. Впрочем, с точки зрения психолога Б. М. Теплова, высказанной в 1945 г., «страх вовсе не является единственно возможной реакцией на опасность»[168], далеко не у всех участников боя возникает чувство страха и, следовательно, не все они оказываются перед необходимостью его преодоления. «Вопрос не в том, переживает человек в бою эмоцию страха или не переживает никакой эмоции, а в том, переживает ли он отрицательную эмоцию страха или положительную эмоцию боевого возбуждения. Последняя является необходимым спутником военного призвания и военного таланта. Бывают люди, для которых опасность является жизненной потребностью, которые стремятся к ней и в борьбе с ней находят величайшую радость жизни», — утверждает он в своей работе «Ум полководца». Таким образом, Б. М. Теплов выделяет две категории воинов: к первой относятся те, кто переживают в бою страх и вынуждены преодолевать его, боевая обстановка их не увлекает; воины второй категории, напротив, стремятся к бою, испытывают «наслаждение в бою», их психическое состояние характеризуется отсутствием страха и наличием боевого возбуждения[169].
Однако обладатели последней из названных эмоций оказываются все-таки в меньшинстве. Согласно данным, опубликованным в США во время войны во Вьетнаме, «выраженный страх испытывает 80–90 % участников боя… Часто чувство страха мешает солдату применять оружие… Лишь около 25 % применяют оружие в бою… Притом эта цифра практически неизменна со второй мировой войны», в которой, по данным тех же американцев, пострадало от боевых стрессов около 1 млн. человек, причем 450 тыс. из них были уволены с психическими заболеваниями, что составило 40 % от общего числа уволенных по болезням и из-за травм[170].
Разумеется, наряду со страхом существует и явление, ему противоположное. Это бесстрашие, которое также проявляется в разнообразных эмоциональных формах. Существуют два основных его вида — как черта характера и как временное, ситуативное состояние. Иногда человек не испытывает страха «по незнанию», не осознавая до конца опасности, не понимая специфических условий боя. Такое «бесстрашие» характерно для необстрелянных, неопытных бойцов. «У меня в боевой обстановке отношение вначале такое было: интересно, — вспоминает „афганец“ майор С. Н. Токарев. — В первый раз стрелять начали, — я на дерево залез посмотреть, откуда стреляют. А когда сучки рядом затрещали, дошло, что нельзя, оказывается, на дерево лазить. Ну, а потом, когда уже мудрым воином вроде бы становишься, на втором году, — то уже совсем другое отношение. Тут уже пытаешься просчитать обстановку: что, как, где, чего… Сначала интересно, какой-то рейнджерский дух, желание себя показать, некоторая бравада; а потом уже, после года [службы], — больший рационализм в поведении, — чтобы лишних движений не делать, лишний раз не подставиться нигде, ну и, как положено, саму задачу выполнить…»[171]
Порою страх «притупляется» от чрезмерной усталости, истощения сил, моральной подавленности, когда человек становится безразличен к опасности. Такое состояние вызвано длительным пребыванием военнослужащих в экстремальных боевых условиях без отдыха, замены, отпусков. Бывает, что опасность вызывает не страх, а чувство боевого возбуждения, которое связано со своеобразным состоянием чрезвычайной активности. В некоторых случаях осознание опасности вызывает особое состояние, сходное с любопытством или азартом борьбы. И, наконец, участие в боях способно до неузнаваемости изменить характер человека, робкого и скромного в мирной жизни, превращая бесстрашие в одно из свойств его личности. При этом необходимо отметить, что бесстрашие заключается все же не в полном отсутствии страха, а в его активном преодолении[172].
Страх — всеобщее, но достаточно сложное, индивидуально окрашенное чувство. «Для меня, участника нескольких войн, не существует людей ни храбрых, ни трусливых, а есть лишь люди, умеющие в большей или меньшей степени владеть своими нервами, — утверждает Г. Н. Чемоданов. — Я знал людей, распускавшихся от небольшой опасности и хладнокровных в минуту смертельных ужасов. Настроение, самолюбие, чувство долга — вот главные факторы, руководящие человеком в боевой обстановке»[173]. Будто откликом на эти слова звучат воспоминания ветерана Великой Отечественной, бывшего командира пулеметного взвода, лейтенанта в отставке В. Плетнева: «Страх за собственную жизнь, а порой, не скрою, и обреченность чувствовал, наверное, чуть ли не каждый из пехотинцев, наиболее из всех родов войск выбиваемых фронтом. Но все-таки выше, сильнее чувств каждого из нас как индивидуума было наше общее солдатское чувство и сознание, что без всех нас, без тяжелых потерь, без фронтового братства, взаимовыручки победы не добыть, и мы говорили: „Если не мы, то кто? Лишь бы хватило нас на победу! Скорей бы!“ Наверное, такое чувство и есть чувство долга»[174].
Майор-«афганец» В. А. Сокирко в ответе на вопрос «Какие чувства вы испытывали в боевой обстановке?» признался: «Первый раз я испытал страх, когда колонна, выдвигающаяся на боевые действия, попала в засаду, причем, засаду очень мощную, хорошо подготовленную, спланированную. У нас были подожжены в ущелье первые машины, колонна встала, и ее пытались расстрелять. Отбивались мы в общем-то неплохо, но когда я впервые увидел стреляющих в меня, с расстояния в 25–50 метров, а это, видимо, были обкуренные фанатики, потому что шли они без прикрытия в психическую атаку, — вот тогда страх был, и дрожь меня била, постоянно какая-то дрожь неприятная, потому что ее никак нельзя было унять. А успокоило то, что рядом со мной возле машины залегли два солдатика-связиста, у них был один автомат на двоих, и когда я посмотрел, как они по очереди стреляли из этого автомата, причем, когда один стрелял, второй давал ему целеуказания — показывал, откуда выскакивают „духи“, — и вот так они менялись, и такое у них было спокойствие, какой-то детский азарт, как при игре в войну, что меня это успокоило. А потом уже во всяких ситуациях я старался держать себя в руках, и это получалось. Но, естественно, при звуке выстрелов в душе что-то всегда сжимается»[175].
Как бы ни определяли психологи те чувства, которые испытывают в экстремальной ситуации комбатанты, можно с полным основанием утверждать, что абсолютно спокойного состояния в боевой обстановке не бывает. «…Спокойных нет, это одна рыцарская болтовня, будто есть совершенно спокойные в бою, под огнем, — этаких пней в роду человеческом не имеется. Можно привыкнуть казаться спокойным, можно держаться с достоинством, можно сдерживать себя и не поддаваться быстро воздействию внешних обстоятельств, — это вопрос иной. Но спокойных в бою и за минуты перед боем нет, не бывает и не может быть»[176], — писал участник Первой мировой и Гражданской войн Д. А. Фурманов.
Само отношение к смерти на войне иное, чем в мирное время. Для того, кто ежечасно стоит перед возможностью собственной гибели и несет гибель другим по принципу «Если не выстрелишь первым, убьют тебя», кто каждый день одного за другим теряет и хоронит товарищей, — смерть волей-неволей становится привычным элементом повседневного быта, а ценность человеческой жизни как таковой нивелируется. «Вид мертвеца в обстановке мирной жизни вызывает у очень многих некоторое чувство страха, которое обусловливается таинственностью акта самой смерти, — отмечает в 1923 г. участник двух войн П. И. Изместьев. — В военной обстановке отношение к трупу убитого совершенно другое. Первые дни пребывания на войне трупы убитых внушают какой-то страх, а затем к ним относятся безразлично. Весьма характерно, что труп одного убитого вначале производит большее впечатление, чем десятки или даже сотни таковых впоследствии. Причина смерти на поле боя каждому ясна, она не представляет ничего загадочного, хотя, в сущности, факт самой смерти должен быть так же таинственен, как и при мирной обстановке. Несомненно, что в данном случае играет большую роль некоторое притупление способности нервной системы реагировать на впечатления»[177]. Добавим от себя, что такое «притупление чувств» является защитной реакцией нервной системы, которая на войне и без того напряжена до предела. Подобное наблюдение делает в своих мемуарах и Г. Н. Чемоданов: «Печальное поле проходили мы. Везде смерть в самых ужасных формах. Но нет отвращения, жути, нет чувства обычного уважения к смерти. Крышка гроба, выставленная в окне специального магазина, помнится, оставляла большее впечатление, чем этот ряд изуродованных, окровавленных трупов. Притупленные нервы отказывались совершенно реагировать на эту картину, и все существо было полно эгоистичной мыслью: „а ты жив“»[178].