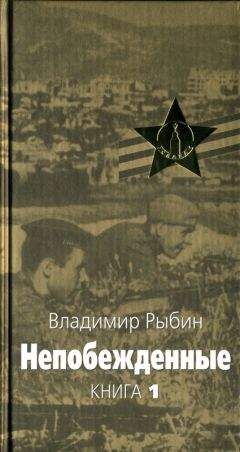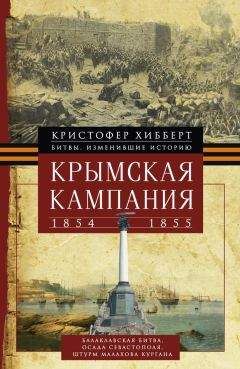Владимир Шигин - Повелители фрегатов
Самою разгульною мечтою и бредом Ивана Васильевича был поединок двух фрегатов, русского и английского, причем, разумеется, первый состоял под его начальством Он приходил в исступление, описывая событие это с такою подробностью, с таким знанием дела верностью, что у слушателей занималось дыхание. Он требовал для этого хороший фрегат, поправки и снаряжения без всякого ограничения, офицеров, которые бы отнюдь не ссорились между собою, а команду какую угодно, все равно, и год практики в море. Годик в море — говаривал он, — я и черта выучу, коли отдать его под мою команду. Мне чужой науки не надо; я слажу и сам; год в море — великое дело; всякого можно приставить к своему месту и делу, вся команда свыкнется и обживется.
— Чуть свет, в исходе шестой склянки, — продолжал Иван Васильевич, сверкая калеными серыми глазами из-под белых бровей, — меня будят судно прямо на зюйд. Вскакиваю, выбегаю с трубой, которую я, как вы знаете, никому не даю в руки…
— Чтоб не сглазили, — заметил другой.
— Да, чтоб не сглазили, — отвечал Иван Васильевич. — Как у меня сглазили их уж две: уронили за борт.
— Не перебивай! — шепнул третий, толкнув товарища локтем.
И Иван Васильевич, не без удовольствия заметив, что в собравшемся около него кружке не одни мичманы, а также двое старых товарищей его, продолжал:
— Вскинул трубу — так, англичанин; его знать по осанке. Это передовик. Бить тревогу; очистить палубы; готовиться к делу; по два ярда в пушку; осматривать горизонт, не покажутся ли еще где паруса. — Спускайся: держать прямо на него. Фрегат под русским флагом! прекрасно, подымай английский флаг! Брамсели долой! — А, вот и другое судно, это товарищ его; кажется бриг… бриг и есть, но он миль 15 под ветром; быть не может, чтобы фрегат, чтобы англичанин уклонился от боя, а бриг опоздает; останутся одни щепки. Неприятель поднял английский флаг с пушкой — ядро дало всплеск под кормой; подымай наш флаг и гюйс три пушки за одну, для почета, а затем, не палить: полкабельтова настоящая мера. Ядро у нас перебило ванту — ядро засело в скулу — констапель говорит, что настоящая мера… просить позволения… Скажи констапелю, что я его посажу в трюм, коли он будет рассуждать: полкабельтова моя мера; не сметь палить, до приказания. Неприятель лежит на правом галсе, держи под корму, подошедши на кабельтов, приводи вдруг — лево на борт — пошел брасы с левой — залп. Кто навел, пали! Право на борт! Спускайся под корму! Залп правым бортом, да продольный, наискось… У англичанина стеньги полетели, рулевую петлю своротило, да зажало крюком, и руль стоит как вкопанный, дурак-дураком… приводи, лево на борт, пошел брасы на левой — валяй по два ядра! Фрегат валит прямо на нас, вышел из ветру, руль не рулит… подай его сюда! Абордажные, готовься — за мной…
Свирепо прорвался Иван Васильевич сквозь тесный кружок и, сделав шага три, повернулся, опустил руку и сказал вполголоса:
— Шиш вам!
— Да вы забыли свой-то фрегат, — заметил кто-то среди общего, шумного одобрения, — что на нем делается. Ведь и неприятель палит не подушками, а такими ж ядрами!
— Ну, так что ж, — отвечал Иван Васильевич, заложив руки в карманы. — Что ж из этого? Ну, нас с вами выкинули за борт, может статься и по частям, кто голову, кто руку да ногу, а место, где мы стояли, подтерли шваброй; вот и все…
Иван Васильевич был искусный и наглый плут, где надо было щегольнуть и покрасоваться в море перед другими; ни у кого не было наготове столько уловок, чтобы первым спустить брам-реи или брам-стеньги, взять рифы и пр. В таких случаях у него все было подготовлено на каболочках и все делалось не фальшиво. Но он, вовсе не будучи честным, потому что как-то не знал этой добродетели и не ценил ее, был, однако же, весьма не корыстен, и никогда не пользовался какими-либо непозволительными доходами, всего же менее на счет команды. Как объяснить это, при других довольно превратных нравственных понятиях, я не совсем понимаю; кажется, это было одно только безотчетное отвращение, основанное на равнодушии ко всему стяжанию. Жадность и скупость, даже несколько тщательная бережливость, в глазах его были пороки презренные; зато всякий порок, согласный с молодечеством, наглостью и похвальбою, слыли в понятиях его доблестями.
При таких свойствах, пороках, недостатках и достоинствах Ивана Васильевича, почти все командиры за ним ухаживали и просили о назначении его к ним. С таким старшим лейтенантом на фрегате, командир мог спать спокойно и избавлялся от большей половины забот своих. Иван Васильевич на шканцах никогда не забывался, никогда не нарушал чинопочитания, но самостоятельность его вообще устраняла всякое вмешательство и не любила ограничений или стеснений. Правда, что командир, положившись на него раз, в нем не обманывался: вооружение, обучение команды, управление парусами — все это было в самом отличном порядке; но команда терпела от непомерной взыскательности, от жестокости своего учителя и не редко гласно роптала. Поэтому было несколько командиров, предпочитавших офицера, может быть не столь опытного и решительного, но более рассудительного и добродушного.
Этот другой был — Федор Иванович. Головою выше первого, более статный и видный собою на берегу, с мягкими, общими чертами лица, он, однако же, на шканцах много терял рядом с Иваном Васильевичем, и сравнительно с ним казался несколько робким и малодушным. Позже, будучи сам командиром, он был в деле и доказал, что внешность обманчива; все отзывались о нем с уважением.
Товарищи дружески называли Федора Ивановича подкидышем Морского Корпуса: овдовевшая мать привезла его в Петербург и притом, по каким-то бестолковым уверениям приятелей, почти прямо с пути, в Корпус, где не было праздного места, и он не мог быть принят! Больная и вовсе без денежных средств, она до того разжалобила Марка Филипповича, что он оставил мальчика на время у себя, или у кого-то из офицеров; мать хотела приехать на другой день, пропала без вести и через неделю с трудом только дознались, что она слегла в ту же ночь и вскоре скончалась, в беспамятстве, на каком-то постоялом дворе или подворье. Что было делать с бедным подкидышем? К счастью, бумаги его уцелели, и он был принят в Корпус круглым сиротой. Гардемарином еще попал он в дальнее плавание, а мичманом сходил в Камчатку, а потому слава и достоинства опытного моряка были ему обеспечены на всю жизнь.
Федор Иванович был высокого роста, строен, темно-рус, сероглаз, с каким-то добродушным отрезом или морщиной между щек и губ. Эта черта поселяла доверенность в каждом, кто глядел ему в лицо. Маленькие, пригожие уши и вольная прическа несколько волнистых волос придавали ему свободную и угодную наружность; но тесные, сжатые плеча и прижимистые локти намекали на мелочность, ограниченный взгляд и несколько тесные понятия. У Ивана Васильевича руки были только навешены в плечах и болтались просторно; у Федора Ивановича он были почти на заклепках и не двигались без надобности, Федор Иванович также не решался расставлять ноги свои вилами, хотя это при качке удобнее, а стоял всегда твердо на одной ноге, подпираясь другою.
В беседе Федор Иванович был очень приятен, но скромен и тих; зато на шканцах я не слыхивал такого неугомонного крикуна. Иван Васильевич никогда почти не брал в руки рупора; Федор Иванович напротив не выпускал его из рук, хотя и командовал обыкновенно своим голосом, довольно звучным, но крикливым. Прокричав командное слово, он продолжал тем же голосом понукать направо и налево, окликать старшего на юте, на баке, на марсах, повторял опять команду, бранился и ругался на чем свет стоит — хотя и не так утонченно грязно, как Иван Васильевич, бегал суетливо взад и вперед, с возгласами: что это, это что? Мордва, Литва! И пр. Со всем тем Федор Иванович знал свое дело отлично, обходился с командой умно и рассудительно, вел подчиненных прекрасно, умел занять каждого и приохотить к делу. Если насмешники и говорили о нем, что клетневка, остропка блоков и оплетка редечкой концов были главным предметом его занятий, то это доказывало только, что Федор Иванович не пренебрегал и этими мелочами, весьма важными в быту моряка, и не имел надобности чуждаться их, потому, что знал все работы эти сам, едва ли не лучше всякого боцмана.
Богомольный, не по обязанности и уставу только, а по чувству и потребности, но богомольный настолько, насколько святость доступна человеку внешнему; ровный и терпеливый в обращении своем, честный и добросовестный в отношении к товарищам, твердый в слове, благородный в поведении, Федор Иванович, однако же, был не без пятна, и правду сказать, не без темного. Будучи о семейной жизни противоположного мнения с Иваном Васильевичем, он охотно мечтал об этом состоянии, как о цели всех надежд своих и служебных трудов. Жена по мыслям, свой домок, свой уголок, свой укромный садик, в котором роются ребятишки как кроты — кто этим не прельстится! Но какими путями бедному подкидышу Морского Корпуса достигнуть такой блаженной мечты? Лейтенант получал в то время 720 руб. ассигнациями! Пример и привычка вызывали в мыслях Федора Ивановича одну только сбыточную картину, один только сбыточный к ней путь: сквозь мрак ночной вахты и сквозь туман утренней, он видел в конце своего поприща уютное местечко при порте; — поставки — подряды — сделки — свидетельства годного и негодного — расчеты и недочеты; вот чем играло скорбное воображение Федора Ивановича и вот что утешало безотрадную будущность его. Он поговаривал об этом, не скрываясь, беседовал с товарищами откровенно, не чая в этом ни греха, ни неправды. Он прибавлял еще к этому: что делать, ведь в нашем быту семьи не обеспечить; экипажные командиры все сами строят, всем сами заведуют, наш брат ротный командир только для славы числится начальником, а доходов нет. Проходит лето в море — одни копеечные остатки от порционных, да барышники от жалованья, что квартиры не нанимаешь; доведется пробыть лето на берегу — пяти человек нельзя выслать на покос, людей нет, все у командира на ординарцах…