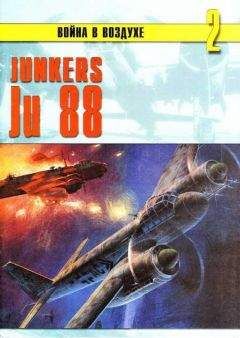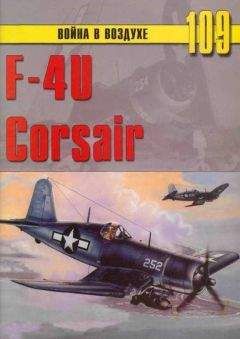О. Гончаренко - От Аустерлица до Парижа. Дорогами поражений и побед
Надо ли выяснять, что все это явилось плодом вымысла ростопчинской фантазии в более позднее время, когда его «деспотизм» далеко уже не встречал одобрения в правительственных кругах, когда и его героизм у современников отчасти был поставлен под подозрение.
30 августа, когда происходила сцена с удалением из Москвы сенаторов, Ростопчин, вероятно, уже не думал о защите Москвы. Ночью он получил уведомление от Кутузова, что «Наполеон отделил от своих войск целый корпус, который двинулся по направлению к Звенигороду». «Неужели не найдет он свой гроб от дружины московской, — спрашивал Кутузов, — когда бы осмелился он посягнуть на столицу московскую… Ожидаю нетерпеливо отзыва вашего сиятельства». Казалось бы, вот где Ростопчин мог бы показать реальные результаты своей продуктивной деятельности, своей воинственной пылкости. «Я ему ничего не ответил», — говорит Ростопчин в своих записках. Предложение Кутузова показалось московскому властелину «весьма дурной шуткою», потому что Кутузову «хорошо было известно, что Москва опустела и в ней оставалось не более 50 тыс. жителей». Так рассказывал Ростопчин впоследствии. Но А.Н. Попов не без основания предполагает, что со стороны Кутузова в данном случае не было «злой насмешки». Кутузов мог вполне искренне поверить, что Ростопчин исполнил свое обещание сформировать добровольную дружину (помимо ополчения) из московских обывателей. Ведь он так много говорил, хвастливый московский градоправитель.
Принц Евгений Вюртембергский, бывший в курсе военных дел, в своих воспоминаниях определенно свидетельствует, что Кутузов «рассчитывал, что все, способное носить оружие, население будет его подкреплять, если будет сражение под Москвой».
Ростопчин, конечно, мог бы претендовать на Кутузова, так как и обещания последнего «скорее пасть при стенах Москвы, нежели передать ее в руки врагов», по меньшей мере были «нескромны», по замечанию ген. Ермолова; Ростопчин мог бы говорить, что эти многообещающие слова внушили ему ложное представление о планах главнокомандующего, если бы приступил действительно к организации той дружины, которая должна была явиться вооруженная по первому его кличу, чтобы отразить французов. Мы знаем уже, как боялся действительности «русский барин», принявший на себя роль народного трибуна, своих даже невооруженных молодцов. Но при всем том отказаться от приема своей рекламной и фальшивой демагогии Ростопчин не мог.
30-го утром Ростопчин вручает Глинке для немедленного напечатания написанные «летучим пером», как выражается Глинка, «Воззвания на Три горы». На основании разговора по поводу воззвания между Глинкой и Ростопчиным можно видеть, что здесь Ростопчин сознательно выступал с обманом: «У нас, на Трех горах, ничего не будет, — заявил Ростопчин, — но это вразумит наших крестьян, что им делать, когда неприятель займет Москву». «Братцы, наши силы многочисленны… Не впустим злодея в Москву… Вооружитесь кто чем может, и конные и пешие; возьмите только на три дня хлеба. Идите… с крестом, возьмите хоругвей из церквей и с сим знаменем собирайтесь тотчас на Трех горах. Я буду с вами и вместе истребим злодея». Для чего допускал эту фальшь Ростопчин? Для того чтобы поддержать спокойствие и порядок в столице, отвечает он. В действительности мера его привела к совершенно противоположным результатам. Уже объявление 30 августа, в котором Ростопчин заявлял, что он клич кликнет «дня за два», произвело, по словам Бестужева-Рюмина, «ужасное волнение в народе», волнение самое убийственное: стали разбивать кабаки, питейная контора на улице Поварской разграблена, на улицах крик, драка… Словом, Москва в этот день как будто вовсе была без начальства».
Таков был неизбежный результат демагогии Ростопчина, которой предусмотрительно, как мы знаем, боялся кн. Вяземский. Ростопчин в своих записках, в свою очередь, констатирует подобные факты, забывая только сказать или не понимая, что они явились прямым продуктом его литературного творчества. Ростопчин рассказывает о заговоре 12 «негодяев» «поджечь город, ударить в набат и во время общей тревоги и смущения броситься грабить богатые лавки». «За три дня до вступления неприятеля в Москву, — передает Ростопчин, — мне дали знать, что некто Наумов, маленький дворянин, пользовавшийся худою славою, подговаривал лакеев и назначил им место, где надо собраться, чтобы пуститься на грабеж, когда придет время. Он набрал и записал их уже более 600, когда я узнал об этом умысле. Между прочим, меня известили, что он похваляется, что убьет меня самого»…
Как ни мало достоверны все рассказы Ростопчина, можно не сомневаться в существовании подобных фактов — погромные элементы были вызваны 82 к жизни самим Ростопчиным. Ввиду волнения, отмеченного Бестужевым-Рюминым, Ростопчину пришлось принимать меры к закрытию кабаков 30 и 31 августа. «Я прибег к этой мере, потому что множество мародеров, дезертиров и мнимых раненых стекалось отовсюду в Москву; а напиться даром допьяна могло привлечь и часть войск и так находившихся в беспорядке. Пьяные же могли начать грабеж и, может быть, поджечь город, прежде нежели пройдет через него наша армия»…
Но меры Ростопчина уже не достигли цели, как определенно свидетельствует очевидец событий и настроения в Москве в последние дни перед сдачей… Легковерная толпа пошла за патриотическим призывом Ростопчина. 31 августа на Трех горах собралось оставшееся население, чтобы «спасти от наступающего врага Москву». «Народ в числе нескольких десятков тысяч, — рассказывает Бестужев-Рюмин, — так что трудно было, как говорится, яблоку упасть, на пространстве 4 или 5 верст квадратных, как с восхождением солнца до захождения не расходились в ожидании графа Ростопчина, как он сам обещал предводительствовать ими; но полководец не явился, и все с горестным унынием разошлись по домам». Автору воспоминаний казалось, что «малейшая поддержка этого патриотического взрыва, и Бог знает, взошел ли бы неприятель в Москву?». Как ни наивно это предположение чиновника вотчинного департамента, оно ярко характеризует личность Ростопчина, храброго на словах, но не на деле. Ростопчин не явился… Он сознательно морочил оставшееся московское население и боялся обнаружения своей фальши. Он был близок к народу, но до крайности боялся этого вооруженного народа, вооруженного хотя бы и рогатками, вилами и топорами. Демагог не способен был лично поддержать в критический момент патриотического взрыва именно из-за страха.
Очевидно, уже в это время московская толпа чувствует большое озлобление против Ростопчина, он вынужден пообещать на другой день начать действовать: «Я завтра еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить… я приеду назад к обеду и примемся за дело: обделаем, доделаем и злодеев отделаем». Верил ли кто-нибудь еще в подобные обещания? Вряд ли: в Москве началась уже полная анархия. «Проходя пешком через Москву, — сообщает современник Евреинов, — я ничего более не встречал, кроме беспорядков и безобразий. Кабаки уже начали разбивать». «За сутки пред вступлением в Москву неприятеля… — рассказывает (быть может, не совсем точно) "Очевидец о пребывании французов в Москве", — нигде не было видно ни одной души, исключая подозрительных лиц, с полубритыми головами, выпущенных
в тот же день из острога: эти колодники, обрадовавшись свободе, на просторе разбивали кабаки… и другие подобные заведения… Вечером острожные любители Бахуса, от скопившихся в их головах винных паров придя в пьяное безумие, вооружаясь ножами, топорами… и с зверским буйством бегая по улицам, во все горло кричали: "Руби проклятых французов"».
На утро вступления французов в Москву беспорядки, конечно, еще усиливаются. В то время, когда русский арьергард под начальством Милорадовича проходил через Москву, а французский авангард под начальством Себастиани вступал в Москву, на улицах начинался уже разгром домов и лавок опьяневшей толпой.
Мы имеем очень яркие показания русских очевидцев о той картине, которую можно было наблюдать в Москве 2 сентября с утра. На улицах бушует толпа. Она состоит из подонков общества, из «колодников», выпущенных или вырвавшихся из тюрем, — одним словом, из таких элементов, которые совершенно терроризировали мирное население. Ростопчин в 1813 г. определял оставшееся в Москве население в 10 тысяч человек: «Когда Бонапарт взошел в Москву, в ней было всего 10 тысяч жителей» («Из них, по крайней мере, половина всякой сволочи, дожидавшейся, как бы пограбить город», — сообщал Ростопчин в письме Воронцову). В письме Вязьмитинову (30 октября 1812 г.) Ростопчин уверяет, что из 10 000 «наверно» 9000 было таких, «кто с намерением грабить не выехал». Среди этой толпы видную роль играют «колодники», которые, по уверению Ростопчина, все (в числе 120 человек) были отправлены в Нижний. Правда, такое предписание было сделано, но в действительности оно осталось только на бумаге. Помимо французских свидетельств (см., напр., яркую картину у Coignet, Roos и др.) достаточно и русских: вот, напр., как описует Москву в 5 часов дня ближайший друг и помощник Ростопчина А.Я. Булгаков: «У заставы нет никого. Кабак разбит. У острога колодники бегут; их выпустили, или они поломали замки свои… Против Пушкина убивают солдаты наши лавочника. Еду по Басманной — ужасная картина, не у кого спросить, где граф. Грабеж везде ранеными и мародерами». Другая картина, начертанная очевидцем, дворовым человеком: «Перед самым тем временем, как вступил француз в Москву, приказано было разбивать в кабаках бочки с вином. Народ-то на них и навалился; перепились пьянехоньки. Вино течет по улицам, а иные припадут к мостовой и камни лижут. Драки, крик!»{8} Еще совершенно аналогичное свидетельство в письме Петра Лунина к Арбеневу (18 сентября): «В день входа неприятеля главнокомандующим и губернатором распущены были и отворены остроги находящимся в оных преступникам, они, а не французы грабят и жгут наши дома, что и по сие время продолжается». Можно найти и другие указания (см. Щук. сборн.). Но особенно любопытен рассказ оставшегося в Москве начальника воспитательного дома И.В. Тутолмина, который попал в трагическое положение, так как все его рабочие и караульщики перепились, таская из разбитых «войсками» кабаков вино «ведрами, горшками и кувшинами»… (письмо Баранову).