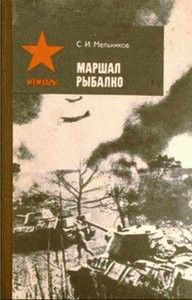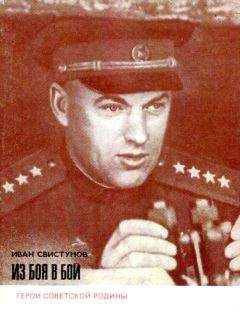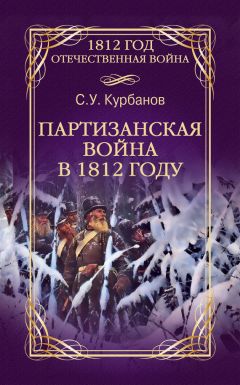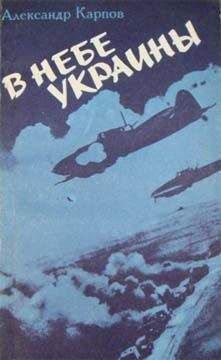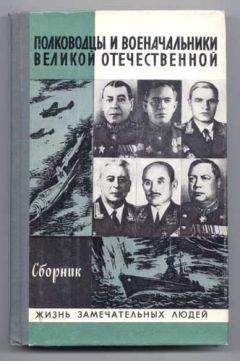Сайидгюсин Курбанов - Партизанская война в 1812 г.
Современник событий отметил, что обращение военного командования армии, читанное в церквях русских деревень, имело большой резонанс.
«Скоро после обнародования такого приглашения поселяне в уездах, прилежащих Смоленской и Московской губернии, взялись за оружие и поражали с неустрашимостью многочисленные толпы неприятельских войск». Обращение командования русской армии было поддержано прогрессивным офицерством. Ф. Глинка записал в своем дневнике: «Вооружайтесь все, вооружайся всякий, кто только может, гласит наконец главнокомандующий русской армии в последней своей прокламации. Итак, народная война»{42}.
Но не только к крестьянам направлялись листовки-возвания. Такое же обращение было адресовано и дворянскому сословию России. Листовка звала дворян спешить на службу, чтобы увеличить силу русской армии: «Если же отдаленность и другие препятствия не позволяют некоторым присоединиться к нам, тогда, вооружившись в своих домах, истребляйте французов мечом и пламенем… Любовь к отечеству, ненависть к врагам и мщение будут единственным предметом наших движений»{43}.
О начавшемся движении среди народа свидетельствуют многие участники тех событий. С. Глинка рассказывал в то время, что еще до оставления русскими войсками Смоленска «обыватели, вооружаясь, чем кто мог, спешили за отступающим русским войском»{44}.
Участник Отечественной войны 1812 г. декабрист И.Д. Якушкин также подчеркивал, что «не по распоряжению начальства, а самостоятельно жители деревень и сел при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои пустые дома на сожжение врагу, и оттуда вели борьбу с захватчиками». Однако не все помещики поступали так. Часть их поспешила надеть на себя мундиры и изъявила желание организовать народное ополчение. Смоленское ополчение, например, насчитывало около 12 тысяч и было сравнительно хорошо обеспечено огнестрельным и холодным оружием{45}. Оно целиком вошло в состав действующей армии и участвовало в обороне Смоленска, Бородинском и других сражениях. Именно о них писал офицер Семеновского полка А. Чичерин: «Жадные и корыстные помещики остались в своих владениях, чтобы как-то избежать полного разорения, и волей-неволей содействуя замыслам врага, открыли им свои амбары с зерном, проливая неискренние слезы и рассуждая о патриотизме, они верности отечеству предпочли удовлетворение своего корыстолюбия»{46}.
Большей частью были корыстны и пожертвования дворян «на нужды отечества». Великий князь Константин Павлович за 126 лошадей, «пожертвованных» в армию, взял из казны 28 350 руб., а лошади почти все оказались негодными: 45 из них пришлось застрелить немедленно, «чтобы не заразить других». Московские дворяне сгоряча обещали царю пожертвовать 3 млн. руб., но потом выяснилось, что 500 тыс. из них собрать «в скорости не можно»; «часть денег вносилась силком еще в 1814 г.».
Разумеется, были и среди дворян всех рангов бескорыстные патриоты и герои, понимавшие, что «война теперь не обыкновенная, а национальная».
В Отечественной войне участвовали 115 будущих декабристов — практически все, кто был тогда способен носить оружие (16-летний Никита Муравьев, и тот бежал из родительского дома на войну). Они храбро сражались во всех родах регулярных войск, а некоторые в партизанских отрядах.
Русское купечество тратило тогда слов меньше, а денег на оборону больше, чем дворянство.
Только московские купцы пожертвовали на армию 10 млн. руб. Но купеческая корысть была не меньше дворянской, ибо купцы поднялись против Наполеона «частью, чтобы избежать разорения, а частью, чтобы обогатиться».
Крестьяне, дворовые, работные люди поднимались против захватчиков, движимые отнюдь не сословными, а исключительно национальными интересами.
«Умирая на поле битвы “за белого царя и Пресвятую Богородицу”, как он говорил, — читаем о русском мужике 1812 г. у А.И. Герцена, — он умирал на самом деле за неприкосновенность русской территории».
Крестьяне, мастеровые, дворовые не только вооружали армию, но и кормили ее, одевали, обували, перевезли для нее на своих подводах миллионы пудов военных грузов.
Только в Орловской губернии крестьяне отрядили для армейских перевозок 55 тыс. подвод.
В целом же население России пожертвовало 100 млн. руб., т.е. сумму, равную всем военным расходам империи на 1812 г. по государственному бюджету.
Сохранилось в хрониках и воспоминаниях немало свидетельств о том, что крестьяне требовали от помещиков вести открытую борьбу с французской армией и громили усадьбы тех помещиков, кто безропотно встречал врага. Реакционно настроенные помещики панически боялись возможности крестьянского восстания и просили царя Александра I запретить вооружение народа. От имени этой части дворянства московский генерал-губернатор Ф.В. Ростопчин писал официальное письмо царю: «Целые сотни есть готовых идти по стопам Робеспьера»{47}.
Повинуясь требованиям дворян, Александр I дал приказ губернаторам отбирать ружья у крестьян, а командующим применять вооруженную силу для их усмирения. Силу для усмирения крестьян применяли П.Х. Витгенштейн и Ф.Ф. Эртель, расправившись с крестьянами, которые отказывались повиноваться помещикам. Войска «навели порядок», вожаки крестьян были преданы военно-полевому суду и расстреляны на местах. Так было сделано в Полоцком уезде, в Прибалтике и Полесье. «… Я получил приказания обезоружить и расстрелять тех, кто будет уличен в возмущении… — писал ротмистр Л.А. Нарышкин. — Не могу обезоружить руки, которые сам вооружил и которые служили и готовы к уничтожению врагов России, и назвать мятежниками тех, которые сами жертвовали своей жизнью для защиты… своей независимости, жен, детей и жилищ, но имя изменника принадлежит тем, кто в такую священную минуту осмеливается клеветать на самых ее усердных и верных защитников{48}.
Однако основной целью крестьянского движения стала борьба с интервентами, за освобождение родной земли от чужеземного ига. Правительство России всячески постаралось использовать в своих интересах стихийно начавшееся движение народных масс, объявив набор в ополчение в июле 1812 г. При этом всех ратников предупреждали, что после окончания войны каждый независимо от его заслуг возвратится с честью и славою в первобытное свое состояние и к прежним своим обязанностям»{49}.
Однако в сердцах крестьян поселилась надежда, что наградою для них за пролитую кровь в борьбе с врагами России будет освобождение от крепостного гнета. Этого в России не случилось. Смоленское сражение не принесло Наполеону ожидаемого им результата — главные силы русской армии ему не удалось уничтожить. Русские уклонились от генерального сражения и отвели свои войска от Смоленска. Грабежи и расправы с мирным населением, породившие народную войну, превратили тыл наполеоновской армии в новый народный фронт и отвлекали большие армейские силы французов. Наполеон получал тревожные сообщения из Германии и Испании. Ему надо было стремиться скорее закончить войну. «Наполеон уже не мог решиться на затяжные кампании. Он знал, что русские просторы проглотят его “Большую армию”, если идти в глубь России. Ему были необходимы быстрые успехи, блистательные победы». Наполеону необходимо было одно — добиваться генерального сражения с русскими. И он устремился вслед за отходившей русской армией. Под давлением общественного мнения царь Александр I был вынужден назначить главнокомандующим русской армией М.И. Кутузова. В русской армии эту весть встретили с ликованием. «Приехал Кутузов бить французов», — говорили солдаты между собой. 17 августа князь Кутузов почти вслед за известием его назначения главнокомандующим прибыл в армию в Царево Займище. Он принял начальство над 1-й и 2-й Западными армиями. Новый главнокомандующий был встречен с воодушевлением и восторгом. Дух в русской армии сразу поднялся, войска были уверены в близости долгожданного решительного сражения и вместе с ним победы над дерзким врагом. Нельзя было упрекать генерала Барклая де Тол ли отступлением. При Смоленске видно было — перевес на стороне французов. Кутузов лично разделял взгляды Барклая — избегать решительного сражения и отступать до тех пор, пока перевес сил в числе войск не перейдет на нашу сторону, благодаря подходившим подкреплениям.
Кутузов смотрел на предстоявшее генеральное сражение как на военную и политическую необходимость. В письме к Александру 119 августа 1812 г. М.И. Кутузов писал: «Всемилостивейший государь! Прибыв 18 числа сего месяца к армиям, высочайше Вашим императорским величеством мне вверенным, и приняв главное над ними начальство, счастье имею донести о следующем. По прибытии моем в город Гжатск нашел я войска отступающими от Вязьмы и многие полки от частых сражений с наступающим врагом весьма в числе истощившимися, ибо только вчерашний день один прошел без военных действий, я принял намерение пополнить недостающее число войск из приведенных вчера генералом от инфантерии Милорадовичем и прослежу, чтобы они были распределены по полкам. Не могу я также скрыть от Вас, всемилостивейший государь, что число мародеров весьма умножилось, так что вчера полковник и адъютант его императорского высочества Шульгин собрал их до 200 человек, но противу этого зла уже приняты строжайшие меры. Первый приказ Князя Кутузова был об отступлении по направлению на Гжатск. В Гжатск прибыли войска под командою Генерала Милорадовича в числе 16-ти тысяч человек и разделили их по полкам.