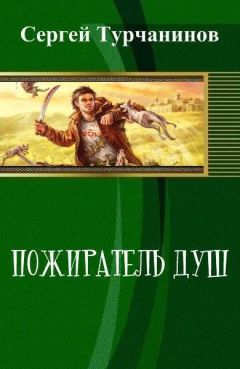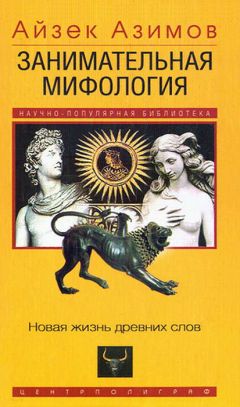Коллектив авторов - Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология
Ментальные образы часто творились с помощью слов: «Жирная прямая линия, проходящая отсюда сквозь вас до конца комнаты» (Луис Камнитцер). «Нечто, что принимает форму в моем уме и иногда доходит до сознания» (Роберт Барри). «Возьмите звук стареющего камня» (Йоко Оно). Часто такие тексты писались на холсте, дабы подчеркнуть его пустоту: «Содержание этой живописи невидимо; его характер и объем должны оставаться постоянной тайной, известной только художнику» (Мел Рэмсден).
Последнее высказывание принадлежит художнику из английской группы «Art Language», разрабатывавшей теорию концептуализма на основе лингвистической философии. Художники этого объединения нередко и свои теоретические сочинения выставляли как произведения искусства. Ведь в их представлении словесный язык стирает визуальное начало или, во всяком случае, направляет мысленное формосозидание по разным путям: «Восприятие больше не является непосредственным и целостным актом; язык фрагментирует и распыляет его. Продукт уже не имеет фокального центра: центрирование уступает место сканированию, так что восприятие движется по полю, где нет ни выделенных зон, ни направляющих линий»[92].
В словесном концептуализме существенна тавтологичность фразы, ее замкнутость на самое себя. Это так называемые аналитические высказывания, то есть высказывания чисто формальные, не отсылающие к внешнему миру. Только такие тексты способны не пробудить воображаемую картину, но произвести в сознании некий ментальный объект, автономный, изолированный от реальности мыслеобраз, то есть образ самой мысли, а не порождаемое ею представление или суждение. Все применявшиеся в концептуализме чувственно воспринимаемые формы – чертежи, карты, математические знаки, начертания слов – рассматривались лишь как подсобные инструменты.
Приведенные здесь примеры исчезающих, убегающих из зрительного поля произведений относятся к раннему, авангардному периоду концептуального искусства. Мы знаем, что со временем оно изменилось, стало проявляться в форме инсталляций (и весьма обширных), вошло в живопись, фотографию, видео-арт. То есть «искусство в голове» нашло себе прибежище в зримой материальной оболочке.
Однако нельзя сказать, что обращение к отвергавшейся ранее визуальности означало разворот в противоположную сторону. Понятие «тотального искусства» в период 1960-70-х годов охватывало самые разнообразные материи, одной из которых была сама реальность, вовлеченная в незримые каркасы семиотических систем. Популярный в то время слоган «art is all over» хорошо передает суть происходивших тогда художественных процессов. «Оконченное» искусство на самом деле не умерло, но растеклось, растворилось в среде, природной и социальной, проникло в организующие мир структуры индивидуального и коллективного сознания.
Яркое проявление такого зримо-незримого искусства – лэнд-арт. Роя канавы и проводя борозды в пустынях, перемещая огромные каменные блоки, намечая дорожки на равнинах и в лесных зарослях, художники не столько преобразовывали ландшафт физически, сколько создавали новые точки зрения на него, совершали «революцию взгляда». Наилучшим образом это может пояснить рассказ Тони Смита о его ночном путешествии по недостроенной автостраде: «Дорога и большая часть пейзажа выглядели искусственно, но это нельзя было назвать произведением искусства. С другой стороны, для меня это было чем-то, чего искусство никогда не создавало. Про себя я подумал: теперь должно быть ясно, что это – конец искусства»[93]. Позднее на него такое же воздействие произвели заброшенные взлетные полосы. Художники лэнд-арта часто обращались к этим впечатлениям американского скульптора. Объект, отключенный от своего практического назначения, вырванный из естественных процессов жизни – это замершее, остановленное мгновение, то есть именно предмет созерцания, равнозначный художественному созданию. Точно так же Роберт Смитсон рассматривал разные циклы строительства плотины как ряд изъятых из реальности форм, то есть как серию абстрактных скульптур. По мере развития такого «произведения» оно все больше истаивало и, наконец, исчезало совсем.
Ричард Лонг, отмечавший разными способами маршруты своих прогулок по пейзажу, писал: «Моя работа видима и невидима. Она может быть объектом (которым можно обладать) или идеей, вынесенной наружу и доступной любому человеку, знающему о ней»[94]. Едва заметные следы – брошенные ветки, камни, примятая трава – выдают недавнее присутствие художника, установившего свою точку зрения на уголок природы, то есть фактически наделившего его художественной аурой.
Не должно удивлять, что художники, работавшие с громоздким, неподатливым материалом почвы, камней, древесной растительности, по сути, имели дело все с теми же психическими феноменами – зрительных и ментальных установок, динамики видения. Неоднократно мастера «земляного искусства» создавали некие аналоги оптических устройств – подзорных труб, телескопов, направленных на значимые участки земли или неба. «Солнечные туннели» Нэнси Холт (1973–1976) – четыре бетонированные трубы, расставленные в пустыне Большого Бассейна так, чтобы во время летнего и зимнего солнцестояния Солнце в своей низшей позиции посылало лучи точно в круговые выходы «туннелей». С фронтальной позиции возникал необычный эффект: кольцо дальнего цилиндра вписывалось в широкое обрамление ближнего, и заполнявший их яркий свет сводил объемы к плоскости, так что все сооружение уподоблялось циркулярным композициям Кеннета Ноланда. В туннелях были просверлены отверстия, соответствовавшие четырем созвездиям, и с перемещением солнца по небосводу внутри плыли их световые проекции. Реальный пейзаж, претворенный в геометрическую абстракцию, дополнялся при входе внутрь впечатлением блуждания среди звезд. Аналогичный эффект схода небесной выси на землю достигнут Нэнси Холт в «Голове гидры» (1974, Льюистон, Артпарк). Шесть небольших круговых бассейнов своим расположением, соотношением размеров и яркости повторяли созвездие Гидры. При создании этой работы художница имела в виду миф о сражении Геракла с многоголовой лернейской Гидрой, но в ее памяти всплывали также представления индейцев об озерах как глазах земли. В перекрытых стеклом озерцах отражалось небо, сверкали солнечные лучи, но в них же собирались воспоминания о давних легендах и человеческих верованиях.
Такие работы, как «Обсерватория» Роберта Морриса (1971–1977), «Роден кратер» Джеймса Таррела (1977), «Комплекс Сити» Майкла Хайзера (1972–1976), также замышлялись как смотровые площадки (искусственные или естественные), системы проемов и коридоров с разными обзорами. И часто в центр внимания попадали именно эти виды, а не обрамляющие их сооружения. Майкл Хайзер, рассеивая недоумение журналиста по поводу меньшей значимости огромной конструкции, чем вида изнутри нее, отвечал: «Единственное, что вы можете видеть здесь – это небо. И это гораздо сильнее в визуальном отношении, поскольку вы не видите ни дерева, ни холма, ни пасущейся коровы. Вы не видите ничего, кроме самого искусства. Это способ заострить и сконцентрировать видение»[95].
Джеймс Таррел использовал кратер потухшего вулкана для создания в нем целой системы проходов, камер, смотровых зон и щелей, улавливающих солнечный и лунный свет в его максимальной интенсивности. С вершины кратера открывалась впечатляющая панорама пустынной равнины, которую художник сравнивал с тонкой, натянутой кожей. Отверстия в тоннелях создавались по принципу камеры обскура, так что в определенных позициях Солнце, Луна, планеты отбрасывали свои проекции на противоположную стену. По сути, вся система, тщательно рассчитанная с помощью ученых, уподоблялась спектаклю со сменой сцен и декораций. Художник пояснял свои намерения: «Я хотел привнести культуру в естественное окружение, подобно тому, как это происходит при проектировании сада или при созерцании пейзажа. Мне хотелось создать пространства, которые вовлекали бы в себя небесные световые события, где исполнялась бы „музыка сфер“ на инструментах света. Последовательность зон, выводящих к финальному обширному пространству на вершине кратера, усиливает звучание событий»[96].
Организуя особые условия восприятия, художники лэнд-арта стимулировали познавательную активность зрителя. Придуманные ими «окуляры» меняли аккомодацию глаза, то есть выводили из фокуса привычно «значимые», но заслонявшие поле зрения объекты, извлекали из фонового шума зрительно ценные образы, пробуждающие ассоциативное мышление. Это были подлинные находки, выталкивавшие сознание из бесконечных циклических повторов, распахивающие перед ним новые горизонты. Вслед за этим и мышление могло направиться по нехоженым тропам. Ведь из всех органов чувств зрение дает наибольшее количество информации, а значит – стимулов к интеллектуальным операциям. Такие работы окружаются ореолом метафор, аллюзий, которые как будто не извлекаются из культурной памяти, а призываются из реального окружения неким сигналом, поданным художником. Кажется, что и неизменные качества реальности, и динамичные события в ней обладают неким символическим потенциалом, способностью являть человеческому сознанию метафорические реди-мейд, визуальные тропы, которые, подобно тропам словесным, обладают свойством переноса значений и расширения начальных смыслов до общих категорий. Возникает явление, аналогичное ауре классического искусства. Чуткий художник улавливает эти значения в окружающей среде и находит способы связать их в один узел.