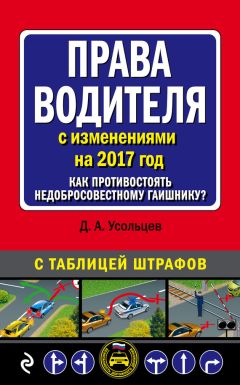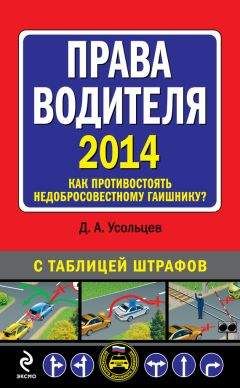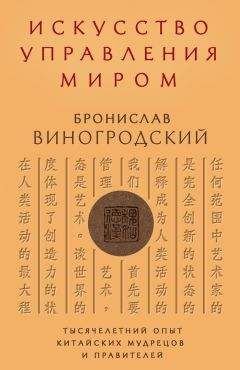Евгений Басин - Искусство и коммуникация
Гете считает, например, неудачным, «механическим», «унизительным» термин «composition», который французы ввели в искусствоведение «с тех пор, как они начали думать и писать об искусстве; ведь говорится: живописец компонирует свои картины; музыкант даже раз навсегда называется композитором, и все же, если оба хотят заслужить настоящее название художника, то они не составляют из частей свои произведения, но развивают какой-нибудь живущий внутри них образ, более высокое созвучие в согласии с требованиями правды и искусства»[518].
У Гете имеются высказывания, в которых он вообще отрицает возможность выразить сущность произведения искусства, красоту словами. Так, в статье «О Лаокооне» (1798) он пишет: «Подлинное произведение искусства подобно произведению природы всегда остается для нашего разума чем – то бесконечным. Мы на него смотрим, мы его воспринимаем, оно на нас воздействует, но не может быть познано; тем более не могут быть выражены словами его сущность, его достоинства»[519].
В статье «Об истолковании произведений искусства» (1822): «… раз художник уже высказал несказуемое, как же можно выразить это на другом языке, да к тому же на языке слов?»[520]. Сходная мысль высказана в разговорах с Эккерманом: «Я смеюсь над теми эстетиками, которые мучаются, стараясь выразить в абстрактном слове и воплотить в понятия то невыразимое, что мы обозначаем словом «красота»[521].
В то же время в других сочинениях Гете мы встречаем более «умеренную» точку зрения. Так, он пишет, что хотя «мы вправе требовать, чтобы любое художественное произведение говорило само за себя, все же это относится только к избранным, самым великим творениям. Все же другие, которые заставляют желать еще многого и лучшего, очень нуждаются в помощи, даже в словесной». Хотя говорить об искусстве – значит «посредничать посреднику», но, считает Гете, «все же за таким занятием мы обретаем немало ценного». Искусство – перелагатель «неизреченного», поэтому может показаться глупостью попытка вновь перелагать его словами, все же «когда мы стараемся это делать, разум наш стяжает столько прибыли, что это с лихвой восполняет затраченное состояние»[522]. Прямо противоположное суждение высказывает Гете и о прекрасном. «О прекрасном можно иметь понятие, и это понятие может быть выражено»[523].
В гетевской «Критике» языка несомненно содержится (не без влияния кантовской философии) известная доля агностицизма. Однако, подчеркивает В. Ф. Асмус, «простое отождествление воззрений Гете с агностицизмом кантовского или юмовского типа было бы так же неверно, как и полное игнорирование известной тенденции к агностицизму, несомненно у Гете прорывающейся»[524]. Неосторожные «философски некорректные высказывания» (Асмус) Гете о языке, знаках и «формулах» имели своей целью скорее оградить исследование явлений от притязаний метафизического, механистического способа мышления, огрубляющего сложную диалектическую природу познаваемых объектов[525].
Есть основания утверждать, что именно в искусстве видел Гете такой способ выражения, обозначения и коммуникации, который сможет преодолеть недостатки языка обыденного и научного познания. Называя искусство «истинным посредником»[526], он пишет: «Я почти и сам начинаю верить, что, быть может, одной поэзии удалось бы выразить такие тайны, которые в прозе обыкновенно кажутся абсурдом, так как их можно выразить только в противоречиях, неприемлемых для человеческого рассудка». И еще: «Ввиду этого мы обязательно должны представлять себе науку как искусство, если мы ждем от нее какой – либо цельности»[527].
Эти преимущества искусства Гете связывает с символическим способом познания, характерным для искусства.
Проблема символа (символического способа познания, выражения и коммуникации) Гете была и остается поныне предметом многочисленных исследований и различных тенденций в интерпретации мировоззрения великого мыслителя[528].
Как отмечают исследователи (И. Кон), слово «символ» появляется впервые у Гете в VII главе «Ученических годов Вильгельма Мейстера» (1796). Во время работы над этой книгой в письме к Мейеру (20 июня 1796 г.) Гете обратил внимание на этот термин у Канта – § 59 «Критики способностей суждения»[529]: кантовское понимание символа, в частности применительно к эстетике, оказало большое влияние на Шиллера, с которым Гете, начиная с 1794 г. ведет интенсивное обсуждение (в беседах и переписке) эстетических проблем, в том числе и проблемы символа. Несомненно, что Шиллер способствовал знакомству Гете с великим немецким философом и с его пониманием символа. Влияние Канта и Шиллера, в особенности первого, на Гете было бесспорно, однако нельзя проходить мимо существенных различий в понимании символа у этих мыслителей[530].
Какие же общие признаки, по Гете, характеризуют понятие «символ»? Символы всегда указывают на «другое», выступая как «представители многих других» предметов и явлений. Причем символ может иметь дело только «со значительным…». «Собственно символические предметы», например, являются тем, «чем является для поэта счастливый сюжет»[531], «театрально лишь то, в чем нам одновременно внушится символ: значительное и высшее действие, указывающее на другое, еще более значительное»[532].
Как и у Канта, символы, согласно Гете, всегда несут в себе созерцание предмета, они образны. «Символика превращает явление в идею, идею в образ…». Элементы символики, не говоря пока об искусстве, имеют место и в языке, поскольку он «образен», в «речи, изначально тропической», как поэзия гения, как поговорочная мудрость человеческого рассудка». Прибегает к символике и наука, в особенности математика, когда она с помощью «чисел и формул» создает «уподобления» познаваемым сущностям, то есть какие – то образные структуры[533].
В символе всегда имеется известное сходство с символизируемыми предметами. Это сходство может быть простым «уподоблением» в случае «формул». Когда же символ выступает в качестве «выдающегося случая», «типа» (или «первичного феномена»)18, он «тождествен» символизируемым явлениям. Но в отличие от простого изображения символ не только воспроизводит «индивидуальность» предмета, он также несет в себе «образ» как «идеальность», как определенное «обобщение». Так, например, «символические» сюжеты глубоко значительны вследствие «идеала», который всегда ведет с собою «обобщение»[534]. Гетевские образы Фауста и Прометея могут служить ярким «практическим» воплощением гетевского теоретического понимания обобщающей силы символического образа[535].
Уже приводилось высказывание Гете о том, что символ «превращает явление в идею, идею в образ…». Таким образом, «идея» – необходимый элемент в структуре символа. Продолжая это высказывание, Гете пишет: «идея всегда остается в образе бесконечно действенной и недостижимой. Даже выраженная на всех языках она осталась бы все – таки невыразимой»[536].
На это высказывание обычно ссылаются те исследователи, которые стремятся сблизить Гете и Канта, отмечая сходство этого высказывания с кантовским определением «эстетической идеи»[537]. Действительно, Гете не прошел мимо той глубокой идеи, которая содержалась в кантовском учении о символе. Что значит, что идея остается в образе «действенной»? В письме к Шиллеру (от 18 августа 1797 г.) он пояснял, что символы, возбуждая представления о сходных вещах, «требуют известной последовательности», «известного единства и всеобщности», то есть осуществляют некоторую регулирующую функцию в качестве некоторого закона[538].
Поскольку символ заключает в себе полноту вещей, является символом «многих тысяч других случаев», «указывает на все остальное и охватывает все случаи», которые возможны[539], его активная сила, порождающая множество представлений, «бесконечна». А раз бесконечна, значит всегда остается что – то «недостижимое», до конца «невыразимое», какая – то «загадочность и тайна».
Произведение искусства, художественный образ, поскольку они символичны, «тем лучше», чем они «несоизмеримее и недоступнее для рассудка» и «навсегда останутся загадкой для рассудка»[540].
В главе о Канте нам уже приходилось говорить, что признание бесконечного и иррационального (трансцендентального) в символе не означает само по себе ни агностицизма, ни иррационализма[541].
Как уже отмечалось, концепция символа Канта страдала субъективизмом. Это понимал и Гете. Когда он характеризует кантовскую философию как слишком «высоко поднимающую субъекта при кажущемся ограничении ее»[542], эта характеристика относится и к кантовскому пониманию символа.
Стремясь к диалектическому синтезу объекта и субъекта, Гете первенство отдает объекту. Шиллер в письме к Гете от 23 августа 1794 г. пишет о том, что Гете «навел» его на след «объекта, материального остова умозрительных идей, что его наблюдательный взор покоится на вещах и не боится опасности «отвлеченного умствования» и произвола воображения», что он «объединяет явления согласно объективным законам»[543]. В письме от 7 сентября 1797 г. по поводу размышлений Гете о «символических предметах» Шиллер, который стоит гораздо ближе к Канту, чем Гете, возражает ему: «Вы говорите так, как если бы здесь особую важность имел предмет; с этим я не могу согласиться»[544]. Подчеркивая важность объективного, предметного содержания в символе, Гете выступает против субъективной, мнимой символики. Он подвергает критике такого рода «символы» в письме к И. Мейеру от 20 мая 1796 г. В работе «Коллекционер и его близкие» (1798–1799) он критикует художников (называя их «эскизниками»), подкупающих «неискушенного зрителя» мыслью, которая «лишь наполовину ясная, но мнимо символически изображенная», вследствие чего зритель «начинает видеть «то, чего там на самом деле и нет». Символ, как средство, которое должно осуществить коммуникацию, «контакт» между «духом» художника и «духом» зрителя, «превращается в ничто»[545].