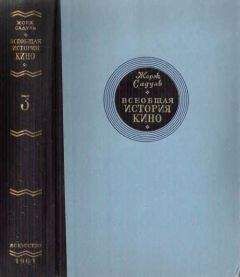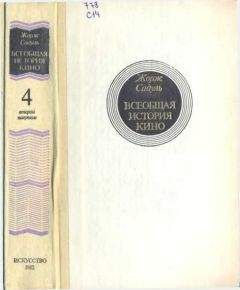Мария Чернышева - Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма
Зеркальный образ – это ренессансная метафора картины, созданной по законам искусства-обезьяны природы. Вспомним слова Альберти о том, что Нарцисс, полюбивший свое отражение, стал изобретателем живописи. Эти слова относятся к тому же десятилетию, что и «Портрет четы Арнольфини», включающий изображение зеркального отражения. Подпись ван Эйка свидетеля не случайна возле зеркала и потому, что зеркало обладает документирующей функцией, не отражает (в отличие от картины) вымысел. Но картина ван Эйка порождает более сильную иллюзию жизни, чем зеркало, ведь его выпуклая поверхность мала и искажает естественные формы. Кроме того, включая в себя зеркальное удостоверение реальности, картина усиливает собственные претензии на документальное свидетельство. По крайней мере в данном случае это так.
Однако здесь зеркало – это также ключ к пониманию религиозно-нравственного содержания картины. На медальонах, украшающих раму зеркала, изображены сцены страстей Христовых. На верхний медальон приходится сцена Распятия. Крест Распятия совпадает с центральной осью и зеркала, и картины. На ось картины накладываются также стержень люстры, соединенные руки супругов, собачка у их ног – символ верности.
Поскольку по преданию крест Господень был сделан из дерева, выросшего из семени райского дерева познания добра и зла, супругов Арнольфини, расположенных по обеим сторонам от оси картины – креста – дерева, можно представить стоящими у дерева познания, подобно первосупругам и прародителям Адаму и Еве. О рае напоминают яблоко на подоконнике и апельсины на сундуке. В саду за окном едва заметно апельсиновое дерево, немыслимое в климате Нидерландов. Собранная спереди пышными складками модная мантия невесты подчеркивает ее живот, намекая на будущую беременность и продолжение рода человеческого.
Но так же супругов Арнольфини можно представить стоящими у Распятия. Выражение их неподвижных, просветленных лиц соответствует состоянию благочестивой медитации. Зеркало здесь играет роль, похожую на ту, какую в миниатюре из «Часослова Марии Бургундской» играет окно с мистическим видением. Но заключая отражения супругов в круг страстей Господних, зеркало без иллюзионизма, символически показывает не чудесное видение, а устремленные к Богу помыслы четы.
В «Портрете четы Арнольфини» отношение между изображаемым и реальным пространствами благодаря зеркалу еще более интенсивно, чем в «Мадонне канцлера Ролена».
Подготовительный рисунок и живописный портрет. «Портрет кардинала Альбергати»[103] Яна ван Эйка интересен тем, что к нему сохранился подготовительный рисунок (ок. 1435 г., серебряный карандаш, 21,2 × 18 см, илл. 27) – случай редчайший для старого искусства. Кроме того, это один из самых ранних дошедших до нас натурных рисунков лица. Он снабжен пояснительной надписью: «…нос красноватый… волосы светлые, седоватые… пурпурная бородавка… глаза с черной обводкой, желтовато-коричневые, а белки голубоватые, по краям светлее… губы очень белесые… волоски бороды совсем седые».[104]
Если не знать рисунка, можно подумать, что живописный портрет, тщательно фиксирующий дефекты кожи, выступающие сосуды на чисто выбритых висках, седую щетину на подбородке, редеющие волосы на голове, предельно точен. Морщины, волоски изображены в живописном варианте даже более отчетливо, чем в карандашном. Однако эти морщины и волоски – проявление свойственного нидерландской живописи пристрастия к натуралистическим деталям. Они обеспечивают образу правдоподобие, но не портретное сходство. Подходящий случай заметить, что натуралистическая художественная деталь не обязательно отражает индивидуальную натуру; натурализм деталей – это порождение не наивного искусства, а зрелой художественной системы.
27. Ян ван Эйк. Портрет кардинала Альбергати. Ок. 1435 г. Дрезден, Гравюрный кабинет.
В живописном портрете ван Эйк очень близко следует подготовительному рисунку, но сознательно отходит от него в существенных нюансах. И они касаются именно портретного сходства.
Ван Эйк вытягивает по вертикали формат картины, сдвигает фигуру к правому краю, срезая им левое плечо, делает лоб круче и выше. От этого подчеркивания вертикалей как будто выпрямляется осанка кардинала и концентрируется волевая энергия в его взгляде. Глаза кардинала теперь зажигаются темно-карими зрачками и не кажутся маленькими. Его крупный нос становится чуть более прямым и чуть менее мясистым. В целом облик облагораживается.
Получается, что по сравнению с рисунком в живописном портрете ван Эйк достигает двух, казалось бы, противоположных результатов: усиливает натурализм некоторых деталей и идеализирует образ в целом, несколько жертвуя портретным сходством.
Леонардо о мимесисе. Леонардо да Винчи (1452-1519), учившийся и много работавший во Флоренции, был первым крупным мастером Высокого Возрождения и одним из самых горячих и ярких сторонников и теоретиков мимесиса в искусстве.
Мысли Леонардо дошли до нас в авторских записях и в основанном на этих записях (в том числе и несохранившихся) «Трактате о живописи», который был составлен, видимо, любимым учеником Леонардо Франческо Мельци в соответствии с намерениями учителя.
Согласно Леонардо, главным и первичным «инструментом» живописца выступает глаз. Без зрения невозможно наблюдение и изображение природы, как и созерцание этого изображения. С этим не поспоришь. Однако глаз и зрение Леонардо наделяет чрезвычайными полномочиями. Он называет глаз не только «господином над чувствами», но и господином над науками, и «окном души»; в одном месте он пишет, что «глаз меньше ошибается, чем разум», а в другом – что глаз служит разуму. «о превосходнейший, – восклицает о глазе Леонардо, – ты выше всех других вещей, созданных Богом! Какими должны быть хвалы, чтобы они могли выразить твое благородство?».[105]
Для Леонардо зрение не только отражает поверхность вещей и явлений, но и измеряет, классифицирует, обобщает, исправляет природу.
И мимесис, к которому искусство направляемо зрением, есть для Леонардо, как и для Альберти (и даже в большой степени, чем для него), сложное, комплексное познание природы на разных уровнях, в различных ее частях и в ее целом, а не только передача ее видимости. Высказывания Леонардо наглядно показывают, что искусство для него неотделимо от науки, подражание природе – от исследования и преображения ее. Причем и в науке, и в искусстве он ценит и эмпирические, и теоретические составляющие.
В своих рассуждениях о живописи и ее категориях Леонардо во многом следует Альберти, но не во всем.
Светотень и темнота. Светотени Леонардо уделяет гораздо больше внимания, чем Альберти. Последний видел пластические формы через очертания, рисунок, Леонардо (и на словах, и в живописи) – через светотень.
Вазари писал: «Достойно изумления, что этот гений, стремясь придать своим произведениям наибольшую выпуклость, применял преимущественно темные тени, чтобы получить еще более темные фоны, и изыскивал такую черную краску, которая была бы еще темнее, нежели остальные черные цвета, для того, чтобы светлые краски при таком сопоставлении казались еще более светящимися; в конце концов при этом способе он дошел до такой черноты, что в его работах не осталось ничего светлого, и они имеют скорее вид произведений, изображающих ночь, нежели тонкости дневного освещения, а между тем все это явилось итогом поисков наибольшей выпуклости и стремления к пределу художественного совершенства».[106]
Вазари точно характеризует пристрастие Леонардо к изображению темных теней и темноты: «превосходнейшей» и «величайшей», как писал о ней сам Леонардо.
Светотень Леонардо двойственна. Чувствуется, что Вазари колеблется в ее определении. Из рукописей Леонардо ему известно, что светотень тот провозглашал средством придавать телам большую рельефность. Вазари повторяет это дважды в процитированном пассаже. Но Вазари не может не замечать, что светотень Леонардо, сгущающаяся в темноту и отчасти поглощающая тела, изменчиво служит как их объему, так и их рисунку.
Если во времена Мазаччо живописцы открыли тень как свойство предметов и характеристику для них, а пространство – как явление, независимое от отдельных предметов, но, как и они, обладающее объемом, то Леонардо светотень начинает увлекать как неопредмечиваемое явление.
«Сфумато» и «ничто». Интересом к жизни светотени порождено леонардовское «сфумато» (ит. «дымный», «мягкий», «неясный», «размытый», «исчезающий»). Это прием нечеткого, слегка расплывчатого изображения форм через объединение тени и света «без черты или края, как дым».[107] Леонардо интересовало и изображение самого дыма, а также оптически родственных явлений – тумана, облаков, пыли.