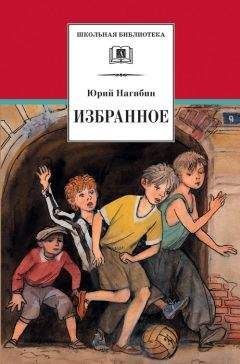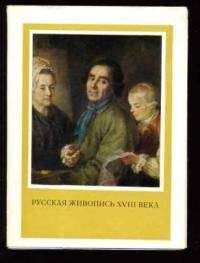Елена Кукина - Золотой век глины. Скульптурные группы из раскрашенной терракоты в художественной культуре раннего итальянского Возрождения
Очень важно отметить, что положение о бесконечности и относительности познания связано в эстетике Кузанца с осознанием относительной ограниченности реалистических возможностей искусства: «Искусство по мере сил подражает природе, но <…> никогда не сможет в точности уподобиться ей…» [92].
Характерно, что в качестве основных ценностей земной жизни Николай Кузанский провозглашает свет и красоту, понятия о которых являются основополагающими в эстетике. Свет и красоту философ объявляет абсолютными атрибутами Бога. В мире они проявляются в конкретных формах, соприкоснувшись с которыми творческая мысль человека начинает в разумном стремлении восходить к пониманию прекрасного (под «прекрасным» имеется в виду абсолютная красота Бога)[93]. Нам представляется, что в этих размышлениях о красоте уже содержится в зародыше альбертиевская идея «синтеза» красоты.
Николай Кузанский постоянно употребляет по отношению к человеку выражение «образ Бога», которое воспринимается теперь не в значении символа, но как прямое дополнение к понятию «человек». «Человек есть Бог, только не абсолютно, раз он человек; он – человеческий Бог (Humanus Deus). Как сила человека человеческим образом способна прийти ко всему, так всё в мире приходит к нему, и стремление этой чудесной силы охватить весь мир есть не что иное, как свёртывание в ней человеческим образом вселенского целого». Отсюда – важнейший в исторической перспективе вывод: «…у творческой деятельности человека нет другой конечной цели, кроме человека»[94]. То есть человек обожествляется как таковой, в собственном качестве, превращается во «второго Бога»; возникает, по образному выражению Ф. Монье, «религия человека»[95].
У Николая Кузанского обожествление человека, сопряжённое с признанием его «ограниченности» как существа конечного, с одной стороны, приводит к совершенно особому решению христологической проблемы: как и представители еретической мистики XIV века, философ переносит акцент на человеческую природу Христа, представляя его не богочеловеком, но человекобогом. Такая трактовка образа Христа характерна для ренессансного гуманизма, и, естественно, наиболее наглядно она отразилась в искусстве; уже в период раннего Возрождения Христа изображали человеком, неразрывно связанным с окружающим его реальным миром. При этом человек-художник опирался на своё «ограниченное» представление: «Человек может судить только по-человечески. Когда человек приписывает тебе (Богу – Е. К.) лицо, он поэтому не ищет его вне пределов человеческого вида, потому что его суждение ограничено рамками человеческой природы и не выходит за пределы его конкретного состояния»[96].
С другой стороны, здесь в завуалированной форме скрывается первое обоснование субъективности творчества (в том числе и художественного). Например, рассуждения Кузанца в трактате «О видении Бога» об особенностях индивидуального восприятия: «Так я начинаю понимать, что твой лик, Господи, предшествует любому и каждому лицу как прообраз и истина всех лиц, и все лица – изображения твоего неопределимого и неприобщимого лица, так что всякое лицо, способное вглядеться в твоё лицо, ничего не видит иного или отличного от себя, потому что видит свою истину <…> Кто глядит на тебя с любовью в лице, найдёт, что и твоё лицо неизменно обращено к нему с любовью. Кто смотрит на тебя гневно, найдёт и твоё лицо таким же. Кто смотрит на тебя с весельем, и твоё лицо найдёт таким же весёлым, как лицо глядящего»[97]. Образ Бога становится «зеркалом» человеческих субъективных представлений о нём.
В. Н. Лазарев так характеризует мировоззренческую ситуацию начала Возрождения: «На пороге нового столетия (XV – Е. К.) и грядущей культуры Возрождения в итальянском обществе чётко наметились два течения. Одному из них принадлежало будущее. Это был гуманизм. Он сознательно порвал с прошлым, со средневековым преданием, с узкоцерковным духом. И это не могло не вызвать вполне естественной реакции со стороны верующих людей, продолжавших лихорадочно цепляться за дедовское наследие, в которое они стремились вдохнуть мистическими порывами новую жизнь. Они мечтали о возрождении старой горячей веры, о спасении церкви путём возврата к заветам евангельской бедности и чистоты, они пытались вступить с небом в более тесную сердечную связь, ибо только таким путём надеялись они победить зло добром. Из этих запросов родилось (уточним: возродилось – Е. К.) второе течение – мистицизм. Вера приобретала здесь исключительную интенсивность эмоционального звучания, экзальтированное воображение создавало поэтические образы, наивные и трогательные»[98]. Из приведённой цитаты видно, что автор расценивает мистику XV столетия скорее как негативный, тормозящий фактор духовного развития общества, резко отграничивая её от гуманистического движения, как фактора прогрессивного. Между тем, в действительности эти два течения тесно соприкасались и их взаимовлияние проявлялось во вполне конкретных формах.
Так, многие флорентийские гуманисты были членами мирских религиозных братств или же занимались проповедничеством[99]. Проповедническая деятельность в период раннего Возрождения была чрезвычайно развита: по словам одного из исследователей, «в XV веке средневековый тип популярного проповедника пережил свой последний расцвет… Это одна из значительнейших культурных особенностей XV столетия…»[100]
Флорентийская Платоновская академия была, по характеристике А. Ф. Лосева, «чем-то средним между клубом, учёным семинаром и религиозной сектой»[101], и атмосфера её сродни жизненному укладу религиозных братств (взаимоотношения, основанные на единомыслии и взаимопонимании, сердечная дружба, связывавшая членов академии между собой, совместные занятия, беседы и времяпрепровождение). Образ жизни флорентийских неоплатоников причудливо сочетал в себе радостное, наслажденное мировосприятие с рецидивами мистического аскетизма (они проповедовали покаяние и освобождение от страстей, занимались самобичеванием и умерщвлением плоти, давали обет девственности и тому подобное)[102].
Показательно, что инициатива приглашения во Флоренцию известного феррарского проповедника Джироламо Савонаролы изначально принадлежала не Лоренцо Медичи, а гуманисту-платонику Пико делла Мирандола. В теории же «всеобщей религии» Марсилио Фичино переплелись и мистическая проповедь самодовлеющего созерцания, и принцип равноценности духовного и телесного удовольствия, и сильный рационалистический момент, связанный с «реабилитацией» земного существования.
Христианский мистицизм Возрождения нашёл своё наиболее сконцентрированное выражение в деятельности Савонаролы, который выдвинул не просто программу церковной реформы и социально-политического переустройства на христианских моральных основах, но как бы «модель» мировоззрения, неотделимого от первоначальных принципов христианства.
В своём учении Савонарола развивал традиционные христологические мотивы. Как мы знаем, особый интерес к Христу и идеализация его образа были свойственны мистикам средневековья; причём характерно, что, выделяя в богочеловеке человеческое начало, визионерская литература XIV века представляла его физический облик в духе слащавого идеала куртуазной рыцарской поэзии и новеллистики, который привносился также и в церковный театр и в изобразительное искусство. Тем самым «Бог утрачивает свой строгий облик и недоступность, становясь близким человеку»[103].
В визионерских сочинениях (Екатерина Сьенская и пр.) и мистической поэзии (лауды Якопоне да Тоди, Бьянко да Сиена и др.) по отношению к Христу и Богоматери в качестве эпитетов и обращений употребляются выражения «прекрасный», «сладкий», «сладостный», «нежный», «любимый», «приятный», «кроткий», «жалостный»; «тонкая», «славная», «любящая». Отношение к Христу и его близким носило характер cortesia – своего рода светского этикета. При этом в одном случае любовь к Христу имеет чувственно-эротический оттенок, в другом (в частности, в лаудах, связанных с мистикой «Страстей» и покаяния) – она носит характер болезненной духовной экзальтации (желание «умереть от любви» и тому подобное)[104].
Сходный портрет трепетного субтильного создания, объекта столь же трепетной любви и преклонения встречаем мы и в трактатах Савонаролы («Трактат о любви к Христу» и «Триумф Креста»). Здесь благоговейное отношение к Христу сочетается с особым культом очистительного страдания, выдвигавшегося Савонаролой на первый план в духовном совершенствовании человека (повышенное внимание и интерес вызывали у него история «Страстей», искупительная жертва Христа).
Занимаясь пропагандой своего учения, Савонарола использовал искусство в качестве одной из её наглядных форм. При монастыре Святого Марка были устроены школы, где, помимо, конечно, богословия, философии, Священного писания, изучались живопись, скульптура, архитектура. Около него сплотился кружок художников, среди которых были представители младшего поколения семейства делла Роббиа, Лоренцо ди Креди, Сандро Боттичелли. Сильное влияние Савонаролы испытал молодой Микеланджело. В частности, флорентийские скульптурные группы из раскрашенной терракоты работы мастерской делла Роббиа, Баччо да Монтелупо, которые входят в интересующий нас круг памятников, непосредственно воплощают в себе основные принципы эстетики Савонаролы – скромность, одухотворённость и гармоничность внешнего облика.