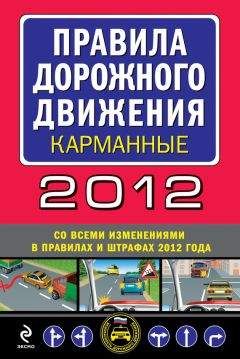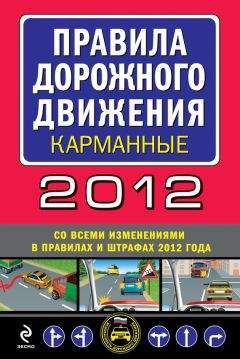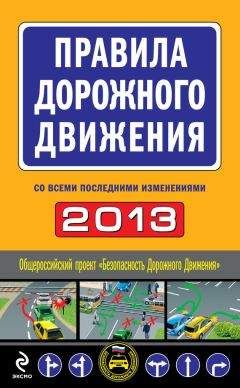Е. Капинос - Поэзия Приморских Альп. Рассказы И.А. Бунина 1920-х годов
в контексте рассказа приобретает новый смысл. Если в дневнике «Sur l’eau» шкипер Бернар – просто помощник Мопассана, даже не нарушающий его творческого одиночества, то в «Бернаре» моряку доверено гораздо больше – он диктует писателю, во-первых, финальную фразу рассказа, во-вторых, предсмертные слова:
– Je crois bien que j’étais un bon marin.
〈…〉
Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар (7; 346–347).
«Свободная стихия» персонажей: «Жизнь Арсеньева», «Генрих», «Галя Ганская»
Явными отсылками к «Bel-Ami» насыщен и роман Бунина «Жизнь Арсеньева». На первый взгляд кажется, что переклички поверхностные, поскольку свою любовь к Лике, свой дар и свободу Алексей Арсеньев переживает совсем не так, как Дюруа, обративший профессию репортера и любовные романы в счастливый случай на пути к жизненному успеху. И все-таки параллелей множество, вот лишь некоторые: как Дюруа – в «La Vie Francaise», Алексей Арсеньев работает в редакции «Голоса», где редактор Авилова неотступно напоминает мадам де Марель. Именно Авилова впервые награждает Арсеньева эпитетом «милый», как госпожа де Марель Дюруа:
– Лика, милая, но что же дальше? Ты же знаешь мое отношение к нему, он, конечно, очень мил, я понимаю, ты увлеклась… Но дальше-то что?
Я точно в пропасть полетел. Как, я «очень мил», не более! Она всего-навсего только увлеклась! (6; 219).
Позже, когда Алексей уже навеки связан с Ликой, красавица Черкасова обращается к нему так, как всегда обращались к Дюруа:
Навсегда покидаю вас, милый друг (…) Муж заждался меня там. Хотите проводить меня до Кременчуга? Только совершенно тайно, разумеется. Я там должна провести целую ночь в ожидании парохода… (6; 281).
Даже во внешности Арсеньева Лика с раздражением замечает «французские черты»:
– Ты опять делаешься какой-то другой (…) Совсем мужчина. Стал зачем-то эту французскую бородку носить (6; 279).
Чем объяснить настойчиво устанавливаемую Буниным связь между столь непохожими друг на друга героями? Возможно, дело вообще не в характере персонажа, а в том, что любой из них, будь то Эмма Бовари, Жорж Дюруа или Алексей Арсеньев, в какой-то мере являются авторским «я». Ю. Мальцев приводит типичные для прозы Бунина примеры смещения границы между «я» рассказчика и «я» героя: «Был ли когда-нибудь у нее столь счастливый вечер! Он сам приехал за мной, а я из города, я наряжена и так хороша, как он и представить себе не мог» («Таня» – «Темные аллеи»). В «Жизни Арсеньева» автор как будто пропадает совсем, поскольку повествование ведется исключительно от лица героя, но «мы постоянно ощущаем, что автор думает и чувствует 〈…〉 Авторское поэтическое “я” не идентифицируется ни с кем в отдельности, но в то же время со всем и со всеми»[115].
Причину сложного процесса идентификации / неидентификации авторского «я» с персонажами Ю. Мальцев находит в том, что Бунин выражает представление о многослойности нашего «я», а главное, о его некой постороннести и неподвластности нам. Мы, собственно, никогда не являемся субъектами нашей душевной жизни, а, скорее, чем-то (кем-то?) претерпевающим ее. Субъект, таким образом, вне нас, единственный и подлинный субъект лишь частично проявляется в нас. На разных уровнях нашего «я» и по-разному – постоянно проявляется некая универсальная и высшая, нам непонятная сила[116].
Сюжет бунинского «Бернара» может рассматриваться в качестве примера на ту же тему: Мопассан, автор Бернара, уже умер в лечебнице доктора Бланша, а неподвластный ему персонаж, его верный шкипер Бернар продолжает жить в Антибе.
Главные события «Жизни Арсеньева» происходят в дореволюционной России, однако хроника жизни главного героя и хронология романа резко перебиты тремя приморскими – антибскими главами (XX–XXII) в конце четвертой книги. По времени события XX–XXII глав сильно удалены от всего, о чем рассказано ранее. Как раз в тот момент, когда читатель ждет развития любовного романа Арсеньева и Лики, рассказчик неожиданно уходит далеко вперед, к своему совсем недавнему эмигрантскому прошлому, к смерти Великого Князя Николая Николаевича-младшего:
Мы с ним уже давно в чужой стране. В эту зиму он мой близкий сосед, тяжело больной. Однажды поутру, развернув местный французский листок, я вдруг опускаю его: конец. Я долго и напряженно следил за ним по газетам и все смотрел с своей горы на тот дальний горбатый мыс, где все время чувствовалось его присутствие. Теперь этому присутствию конец[117] (6; 186).
Великий князь умер в Антибе («тот дальний горбатый мыс» – это и есть Антиб), и не стоит сомневаться, что для Бунина, как и для многих эмигрантов, его смерть символически означала и смерть России, и предвестие личной смерти[118]. Исследователями творчества Бунина подчеркивалось, что в романе отвлеченный от основной линии антибский эпизод не только несет символический смысл, но еще и имеет непосредственное отношение к Лике. Связь между смертью Великого Князя и смертью Лики открывается ретроспективно, в финале.
С самого начала знакомства Лики с Арсеньевым и до конца (чем дальше, тем сильнее) выясняется, что влюбленные герои имеют разные литературные пристрастия, вернее, Лика не может разделять утонченных писательских взглядов Арсеньева, она скучает, когда он перебирает в памяти мельчайшие детали пережитого, оттачивает фразу, любуется стихотворной строкой:
Я часто читал ей стихи.
– Послушай, это изумительно! – восклицал я. – «Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц, над рощей, печаль!» Но она изумления не испытывала.
– Да, это очень хорошо 〈…〉 но почему «как месяц над рощей»? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы.
Я негодовал: описаний (6; 213–214)[119].
Не смысловые нюансы, не детали и фраза, а эффектное драматическое действие притягивает Лику, поэтому она невольно усугубляет трагический финал, когда просит отца и брата, «чтобы скрывали» от Арсеньева «ее смерть возможно дольше». Подобного рода «интриги» характерны для героев массовой литературы. Самый простой, бесконечно повторяемый сценарий выглядит так: герой получает письма от возлюбленной, но позже выясняется, что она умерла, а письма отправлял кто-то другой, выполняя ее предсмертную волю[120]. В «Жизни Арсеньева» финал в чем-то похож на подобные беллетристические развязки, но только он лишь отчасти срежиссирован героиней, а вообще-то не является ее «грубым» драматическим замыслом (каковым было бы распространенное в беллетристике самоубийство). Скорее, смерть Лики сложно синтезирует поэтическую игру обстоятельств и отчаянные драматические замыслы героини.
Узнав, в конце концов, о смерти Лики, Арсеньев получает одновременно и литературное поражение: для него открывается прежде неоцененный, укорененный в чуждой ему стихии яркого, площадного, драматического искусства, талант Лики. Но это еще не все: последние страницы «Жизни Арсеньева» устроены так, что один финал наслаивается на другой. Тихая Лика свободным жестом – разрывом с Арсеньевым, так неожиданно довершенным смертью (прототип Лики, Варвара Пащенко, благополучно пережила разрыв с Буниным), дает реверсивный импульс повествованию: смерть героини заставляет по-новому оценить весь ее образ, но автор ее образа, ее живых портретов не она, а Арсеньев. Все, написанное прежде о Лике, исполнено изящества и тех подробностей, которые доступны только взгляду писателя. Равновеликость и героя, и героини, и в то же время их взаимоподчиненность друг другу (Лика зависит от Арсеньева – как модель зависит от творца, а Арсеньев прикован к Лике узами любви, которые оказываются сильнее смерти) не позволяют роману превратиться в эффектную беллетристическую драму. Фабульный конец романа о любви – смерть Лики не является окончанием романа, смерть Лики обрамляется памятью Арсеньева, только в его памяти и в контексте всего романа проявляется подлинный смысл этого события. Антибский эпизод помогает разглядеть настоящую перспективу любовной истории: смерть Великого Князя Николая Николаевича означает, что уже исчезла та страна, где похоронена Лика, уже близится конец жизни Арсеньева, но вопреки всему героиня не покидает возлюбленно-го[121]. Роман как будто бы все время раскачивается от утонченной стилистики Арсеньева к резкому, театральному стилю Лики, от поэзии к прозе, от обобщающего символизма к мельчайшим, живым подробностям и деталям.
В миниатюрном рассказе «Бернар», как и в «Жизни Арсеньева», события излагаются непоследовательно, резкое несовпадение фабулы и сюжета (традиционно отмечаемая особенность поэтики Бунина) проявляется здесь в полной мере. Когда автор, чувствуя приближение смерти, вспоминает антибские легенды о моряке Бернаре, то, скорее всего, он оглядывается не только на давние события жизни, но и на свои прежние тексты. И если в «Жизни Арсеньева» смерть великого князя возвращает назад, к смерти Лики, то в контексте всего творчества Бунина «Бернар» отсылает ко всем антибским эпизодам более ранних произведений: к Антибу в «Жизни Арсеньева», к Антибу, Ницце и Каннам в «Темных аллеях». Лика воплощает собой излюбленный тип бунинской героини – неискушенной в литературе и жизни наивной особы, в которой проступают грубоватые, «народные», простодушные черты[122]. Герой (часто писатель или просто рассказчик) специально поставлен в сюжетах Бунина в противоречивое положение: он отстранен от простодушного мира, резко не совпадает с ним, выделен из него и вознесен над ним, но в то же время именно живая наивность и простота притягивает его и навсегда остается с ним[123].