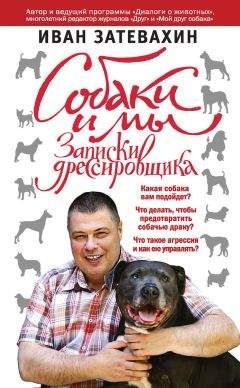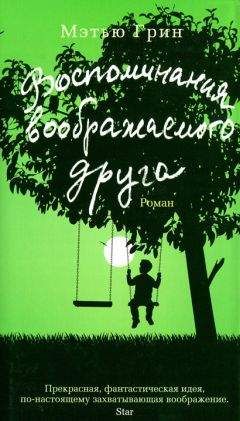Иван Давидков - Прощай, Акрополь!
Эта история повторялась часто. Когда не находилось удобной квартиры, адвокат приглашал посетительниц прокатиться за город на машине. Он останавливал машину у обочины проселочной дороги или съезжал на луг, якобы для того, чтобы полюбоваться огнями города, и они отдавались притворной страсти в тесноте скрипучей железной коробки.
Как–то вечером в начале марта Мартин, проходя по улице, заметил адвоката, ехавшего в забрызганной грязью машине. Он помахал рукой, адвокат остановил машину.
— За городом был, — объяснил он, не поздоровавшись с Мартином. — Увяз в грязи, еле выбрался…
В окно высунулось его лицо с тонким острым носом и маленькими зеленоватыми бегающими глазками. По обеим сторонам головы с розовой лысиной спускались жесткие, приподнятые воротником, уже совсем седые пряди. Руки его были грязны, на лице тоже были темные пятна. Он попросил у Мартина разрешения заехать на минутку к нему, помыться: неудобно являться домой в таком виде.
Когда адвокат, уже одетый в пижаму Мартина, пил кофе, а от мокрых брюк его, сушившихся на батарее, шел пар, Мартин узнал, что случилось, и долго хохотал — сначала сдержанно, чтобы не обидеть пострадавшего, а потом закатился так, что из глаз полились слезы. Выпив кофе, гость приободрился, причесал мокрые пряди, продолжавшие воинственно торчать за ушами, позвонил по телефону Жене (она что–то проворчала) и принялся подробно расписывать Мартину свои злоключения.
Он встретился со своей новой подругой («Мими, ты ее не знаешь, я улаживаю ее тяжбу о наследстве»), и они поехали на машине по Пловдивскому шоссе, потом свернули на одну из проселочных дорог. Оказалось, что по ней часто проезжают грузовики из ближайшего сельскохозяйственного кооператива — возят солому на станцию. Шоферы, завидев стоящую в поле машину, включали дальний свет, сбавляли скорость, чтобы посмотреть в чем дело. Адвокат решил отъехать на середину поля — земля замерзла, машина не завязнет. Он смотрел, как удаляются грузовики с любопытными шоферами, ощущал, как рядом с ним копошится его доверительница, снявшая сначала пальто (в машине было тепло), а потом туфли, со стуком упавшие возле сиденья. Сколько времени они простояли в поле, он не помнит (было так хорошо), но когда он включил мотор и собрался вывести машину на дорогу, то почувствовал, что колеса буксуют.
Пробовал вперед–назад — машина ни с места, наоборот, глубже увязает, и только мелкие лепешки грязи стучат по крыльям.
— Такая пламенная любовь и лед растопит, — хохотал Мартин, глядя на исцарапанные руки своего приятеля и пытаясь представить, как лакированные туфельки очаровательной девушки, которая ни в коем случае не должна лишиться наследства, тонут в грязи, когда она таскает ветки, чтобы подложить их под колеса.
— Теплый ветер с нами шутку сыграл! Подул — ну и выбирайся как знаешь! — говорил юрист, надевая брюки; он подпрыгивал на одной ноге, никак не попадая в штанину.
— За удовольствие надо платить. Даже за самое невинное…
— Надо, Мартин, надо, а то скоро ни за какие деньги не получишь. Урву от жизни сейчас, что можно, чтобы завтра не жалеть…
Он распрощался и ушел.
Минут через десять адвокат доберется до дому. Ругая слякоть и стершиеся покрышки, он сядет к печке погреться и выдумает презабавную историю, объясняя свое позднее возвращение. Потом скажет жене, что видел в витрине магазина неподалеку приличную ткань на платье (завтра в обед они вместе пойдут ее покупать) и, прикрыв глаза, откинувшись на широкую, как слоновья спина, спинку серого кресла, будет, как обычно по вечерам, пить чай. Жена адвоката — высокая, с сухим лицом, кожа которого напоминает пергамент, с тонкими, нервными пальцами — будет бесшумно двигаться по дому, подаст мужу блюдце с рассыпчатым печеньем, крошащимся в его пальцах, и отыщет шерстяную кофту, чтобы набросить ему на плечи — ведь от окна дует.
Мартин частенько бывал у них. В их квартире царили больничная чистота и порядок. От этой аккуратности веяло каким–то холодом, и Мартину всегда было там немного не по себе — словно он окружен хрустальными бокалами, которые могут разбиться от одного неловкого движения.
Каждую среду хозяйка дома собирала гостей, их старых знакомых. Это были музыканты, юристы, иногда заглядывал и автор романов, который испытывал к адвокату особую благодарность за то, что тот не раз предоставлял в его распоряжение свой богатый архив — неистощимый кладезь сюжетов. Они сидели в гостиной, где стояло высокое, в человеческий рост трюмо, в котором отражались обитые серым атласом кресла и темный, цвета йода, буфет орехового дерева. За ужином хвалили кушанья, приготовленные хозяйкой специально для приятного общества, чокались хрустальными бокалами и вели беседу.
Все они были давно знакомы между собой и заранее знали, что каждый из них может сказать, и тем не менее всегда находилась интересная тема для разговора. К примеру, когда отсутствовал писатель, говорили о том, какой баснословный гонорар он получил за свой последний опус («Между прочим, роман весьма посредственный…»), посмеивались над тем, как он полез под стол и отодвинул ногу кассира, чтобы подобрать оброненную мелочь. А при нем злословили по адресу эстрадных певцов.
— Высокооплачиваемая пошлость! — горячился один из гостей, флейтист филармонического оркестра. — Ты всю жизнь играешь Вивальди и Моцарта, а они по два раза в год ездят на гастроли за границу. У них в домах мухоловки и те заграничные! А ты не знаешь, как свести концы с концами…
Когда эта тема иссякала (впрочем, в разных вариантах она всплывала почти каждый раз — подробности семейной жизни эстрадных певцов и певиц вызывали жгучий интерес), дамы удалялись в другую комнату, где хозяйка демонстрировала вышитые ею салфетки. Супруга юриста явно отличалась упорством и терпением, если могла вкладывать столько старанья в такое старомодное и бессмысленное занятие. Гостьи ахали и восторгались, но, когда, распрощавшись, выходили на улицу и окно, где на занавесках мелькали тени адвоката и его супруги, оставалось у них за спиной, они яростно высмеивали своих старых друзей, чей дом покинули всего минуту назад.
— Если я когда–нибудь сяду и опишу все похождения глубокочтимого покорителя нежного пола Макавея Манушева, это будет моя лучшая книга, — завершал разговор автор романов, черпавший вдохновение из архива юриста. — Я назвал бы этот роман «Тайная и явная жизнь моего друга…».
На следующий день жена Манушева убирала квартиру, не оставляя ни пылинки, возвращала кресла на точно определенные им места и ожидала следующей среды, когда на вешалке в прихожей вновь появятся пальто и зонты гостей.
Мартин вспоминал, с каким легкомыслием в годы молодости он порывал с друзьями из–за одного резкого слова или замечания (часто справедливого) или забывал о своих идеях и проектах, помогавших ему верить, что он способен совершить то, о чем другие не смеют и мечтать. Он полагал, что богатства молодости бессчетны — сколько ни трать, не растратишь, — и потому даже в минуты неудач сохранял бодрость и уверенность в себе, хотя с течением времени стал замечать на ее сверкающей поверхности пятнышки сомнений, как ржавчину па блестящем бруске металла. Кое–какие из этих тревожных признаков можно было стереть откровенным дружеским разговором, даже просто улыбкой, но от других, более глубоких, оставался неизгладимый, похожий на оспины, след.
Что ему уже пятьдесят, он спохватился, когда заметил, какую привязанность начал испытывать не только к немногим старым друзьям, но и к окружавшим его вещам. Прежде он не замечал за собой такого, и казалось странным, даже мещанством, что ему жаль, например, выбросить старую потрескавшуюся электроплиту с пятнами пролитого кофе. Следовало отдать эту рухлядь старьевщику, но, когда привезли новую плиту — сверкающую, по–хозяйски уверенную в себе, — он попросил грузчиков отнести старую на чердак. Поднимаясь впереди них по лестнице, он следил, как бы они не поцарапали о косяк двери этот никому не нужный железный хлам. Он привык к этой вещи, многие его воспоминания были связаны с запахом сбежавшего кофе, и ему представлялось, что спотыкавшиеся сейчас на лестнице грузчики уносят на чердак не только старую железную плиту, но и прожиты/ им годы, врезающиеся своими краями в их натруженные руки…
Подобное чувство он испытал, когда привез домой новую пишущую машинку в черном, футляре шагреневой кожи. Он переставил на другой стол свою старенькую «Колибри» — плоскую, голубовато–серую, с темно–зелеными клавишами, а на ее место водрузил новую машинку. Сверкающие никелем буквы запрыгали под его пальцами, и на бумаге поползли — с красными пятнышками по нижнему краю, потому что лента была двухцветной, — слова, которые Мартин выстукивал, наслаждаясь звоночком в конце каждой строки. Он слушал этот звук, поглядывал на вытертый по краям футляр старушки «Колибри», и ему становилось грустно, что он должен расстаться с ней…