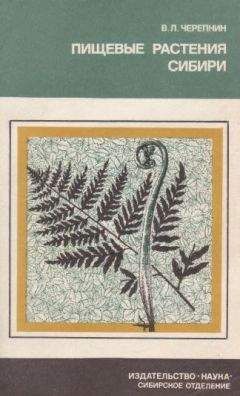Бердыназар Худайназаров - Люди песков (сборник)
"Он прав!" — подумал я.
…На этот раз я не перебивал старика. Он говорил все, что считал нужным. Прошло пять минут, десять. Чуть слышно гудел включенный аппарат; за стеной, в загоне, шумела отара, растревоженная нежным запахом сена; порой раздавались окрики Ходжава, оставшегося с овцами…
Каратай-ага говорил о том, какой ценой приходится спасать отары, вспоминал войну, тяжкие дороги отступления, безмерное мужество наших солдат. Потом сказал:
— Этим летом по радио передали весть: в Центральных Каракумах, в районе Кизылтакыра, создаются большие запасы кормов для скота на случай суровой зимы. Весть была добрая, и мы поверили ей, потому что привыкли верить. А потом, уже осенью, поняли: добрая весть оказалась фальшивой. Я написал об этом тебе на радио, потому что эту весть разнес ты…
— Да, но я же не выдумал ее!
— Знаю. Тебе о ней рассказал Касаев. Разве от этого твоя вина меньше? Так вот: на мое письмо ты не ответил…
Я вспомнил это письмо. Оно было единственным таким среди других, в которых люди благодарили меня. Помню и то, что я сначала расстроился, но репортаж мой висел в редакции на стенде лучших материалов. И Садап сказала: "Не обращай внимания. Какой-нибудь склочник. Уж как-нибудь Мерет Касаев лучше понимает обстановку!"
— Расслабляться нельзя! — закончил Каратай-ага. — Мы не знаем, сколько продлятся морозы и снегопады. Сегодня нам привезли сено. Это выход из положения только для тех, кто живет поговоркой: "День прошел — и слава богу!" Мы сделаем все, что от нас зависит. Но пусть каждый знает: опасность не миновала. Она — рядом! Сегодня, и завтра, и в будущем!
Старик замолчал и обнял меня:
— А теперь — прощай, сынок. Кажется, ты справишься со своим делом.
9Я покидал Аджикуйи совсем другим человеком. Приехал я самонадеянным, не знающим сомнений, а уезжал, поняв многое, узнав, "кто есть кто", как говорят англичане. Так мне, по крайней мере, тогда представлялось.
Каратай-ага высказал в последний момент весьма серьезные упреки. В редакции меня ждали упреки не менее тяжелые. Я даже предугадывал формулировку в приказе, который будет висеть на том самом месте, где еще совсем недавно находился мой образцовый репортаж. "За срыв оперативного задания…" Болели обмороженные пальцы, и спина ныла от усталости так, что лошадь, чувствуя мою неуверенную посадку, недовольно мотала головой… Озабочен я был по-прежнему судьбой отары в Аджикуйи, как, впрочем, и других разбросанных по пустыне. Не выходили из памяти "хозяйские" овцы, которые паслись под видом совхозных. Словом, причин для дурного настроения куда как хватало.
У меня же, наоборот, был необычайный душевный подъем! Я чувствовал, что оказался в самом центре важных, неведомых мне прежде событий. От того, как они станут развиваться, изменится многое в моей жизни. А развиваться они станут в зависимости от решения, принятого мной. Раньше я с легкостью, не задумываясь, определял для других "верное направление". Теперь мне самому предстояло выбирать его.
В таком настроении я приближался к Кизылтакыру. Уже издали слышен был разноголосый шум моторов. Автоколонна с грузами пробилась в Кизылтакыр!
Судя по всему, прибыла она только что; водители еще размещали свои машины на стоянке, хотя некоторые уже разводили костры, не дожидаясь, когда их определят на короткий отдых. В штабе непрерывно хлопали двери: люди входили и выходили. Грузов было много — они горбатились под брезентом выше кабин. И опять, как прежде, когда вертолет приземлился с тюками сена, меня охватило радостное возбуждение при виде этого богатства, заглушившее на некоторое время неприятные мысли. Даже подумалось: не оказался ли я там, в Аджикуйи, вместе с чабанами в положении солдата, который видит войну лишь из своего окопа и с этой позиции судит о ней? Вон какие силы брошены в бой!
На несколько минут я задержался возле штаба, потолкался среди шоферов, сделал несколько записей ("Тяжело, конечно, но ничего, пробились все-таки…", "Часок-другой отдохнем — и дальше. Знаем, в каком положении отары…") и направился в штаб.
Начальника штаба на месте не оказалось. В его кабинете сидел Мерет Касаев.
Он искренне — я это видел — обрадовался мне, усадил рядом и принялся расспрашивать о делах в Аджикуйи. Покачал сочувственно головой, глянув на мои обмороженные, распухшие пальцы.
— Досталось тебе! Могу, конечно, упрекнуть: мы другого от тебя ждем — твоих ярких выступлений. Но как упрекнешь за благородство души! Ничего, зато теперь расскажешь обо всем с полным знанием дела. Такими пальцами пишут только правду!
Черт возьми! Все призывают меня писать и говорить правду. Правду, одну только правду, ничего, кроме правды! Но почему у всех она разная?
Мерет Касаев тоже выглядел неважно. Я помнил его моложавым, статным, с чисто выбритым лицом, еще не тронутым не только морщинами, но даже морщинками, исполненным того внутреннего достоинства, которое присуще людям, знающим себе цену, но не стремящимся показывать ее другим. Он словно постарел за пять месяцев на пять лет. Или за пять дней? Да, в эти дни, похоже, всем досталось.
— Кстати, насчет правды, — сказал я. — Помните нашу поездку прошлым летом? Я передал репортаж, где, в частности, говорилось о создании больших запасов кормов на случай суровой зимы… Как раз здесь, в Кизыл-такыре. Чабаны поверили нам…
— Эх, Атаджанов, Атаджанов, — ласково сказал Касаев. — Славный ты парень, да больно молод. Мы никого с тобой не обманули. Речь шла о решении. Понимаешь? Решение очень хорошее, оно будет непременно выполнено. Но для этого нужно время, средства, материалы. Для этого необходимо внести изменения в планы, многое согласовать и увязать. Недавно подсчитал, — Касаев невесело усмехнулся, — за последние полгода всего два месяца был дома, в совхозе. Остальное время в разъездах: согласовываю да увязываю… Спасибо, еще твоя супруга нас выручает, не знаю, что без нее делали бы!
— Какую же правду вы хотите в моем репортаже?
— Расскажи, что видел. Такого, как в этом году, больше не должно повториться.
— Может, и вы скажете несколько слов?
Он охотно согласился, уверенно взял в руки микрофон и начал:
— Воодушевленные решениями и постановлениями районного Совета…
Ну и так далее. О трудностях в его выступлении не было ни слова.
Я понял, что больше мне здесь нечего делать.
Через час попутная машина везла меня в Ашхабад. Снова поднялся ветер и пошел снег. Стало сумрачно, как вечером. Недавно расчищенную дорогу быстро заметало, и водитель выжимал из машины все, на что она была способна, опасаясь застрять в пути.
На душе у меня было так же пасмурно и смутно, как и вокруг, от сознания своего бессилия перед фактами, которые никак не хотели выстраиваться в ясную логическую цепочку.
Домой я приехал затемно. В редакцию идти уже было поздно, да и с чем бы я пришел туда? Мне предстояло провести еще одну бессонную ночь, подготавливая к утру материал. Ничего, говорят, дома и степы помогают.
К счастью, Садап была уже дома. Увидев меня, она встревожилась, стала допытываться, почему я вернулся на день раньше, не заболел ли? Успокоилась, лишь когда я сказал:
— Знаешь, я открыл секрет. Не хватает времени в командировке, когда ездишь на машине. Я провел с чабанами два дня, и этого оказалось достаточно.
Распухшие пальцы я старался держать так, чтобы она их не замечала. Удавалось мне это довольно долго. Я принял ванну, поужинал и прилег отдохнуть на полчаса. Какое блаженство — растянуться после горячей ванны на слепяще белых, накрахмаленных простынях, пахнущих прохладой! Особенно если ты два дня не раздевался, мерз на пронизывающем ветру и дремал в углу мазанки, подложив под голову старый чабанский полушубок, провонявший овцами, дымом и прогорклым салом. Право, удержаться от сна сейчас мне стоило еще больших усилий, чем тогда, в мазанке, после тяжелой ночной работы. Но я удержался. Попросил Садап заварить мне покрепче чай, встал и отправился за письменный стол. Тут она и увидела мои пальцы. Еще полчаса ушло на причитания и лечение. И вот я наконец за работой. Садап, занятая домашними делами, бесшумно двигалась по комнате, стараясь не мешать мне.
— Знаешь, — сказал я, не выдержав, — в трудные минуты я думал о тебе. Никогда не был сентиментальным, а тут вспоминал то и дело. Смешно, да?
Садап подошла сзади, обняла.
— Ты даже не рассказал, как там?
— Потом, Садап, потом…
— Молчу. А я тебе подарок приготовила. Угадай какой?
— Садап!
— Молчу!
Я просидел за столом час. И опять — ни строчки. Не помогал даже крепчайший чай. Садап уже легла, но не спала: на туалетном столике возле кровати горел светильник, она читала. Я присел на краешек кровати.