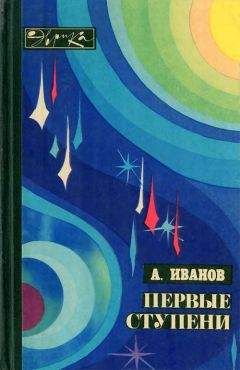Питер Абрахамс - Тропою грома
Долго еще после того, как дверь затворилась, Ленни не отрывал от нее глаз. Да. Он правильно сделал, что вернулся домой. Здесь ему будет нелегко. Многих вещей ему будет недоставать, и по многим людям он будет скучать. Больше всех по Селии. Но зато здесь он может многое сделать. Очень многое. Только не увлекаться, предостерег он себя. Не увлекаться и вести себя осторожно.
А мать как счастлива. Милая мама. Старушка. Гордится им и рада, что его так встречают, — а все же самое главное для нее это, что к ней вернулся сын. И я тоже рад, что вернулся к матери. Как это сказано у Тумера?[10]
Вернулся твой сын, о Земля дорогая!
Склоняется солнце, лучи догорают.
Для племени черных чуть светит светило,
Чуть веет теплом, но еще не сокрылось
Оно, угасая, и время, я знаю,
Еще мне позволит увидеть пенаты,
Прижаться к тебе, о Земля дорогая,
К тебе, уплывающей в тенях заката.
Ленни надел пиджак, закурил сигарету и вышел. Когда он проходил через кухню, мать быстро вскинула на него глаза и улыбнулась, потом продолжала возиться со стряпней. Выйдя из дому, Ленни выпрямился, глубоко вздохнул и огляделся по сторонам.
Вечерняя тень уже заполнила долину, и Стиллевельд, его родная деревня — эта кучка жалких глиняных и деревянных построек, крытых старым гофрированным железом, — уже не выглядела такой угрюмой и нищенски бедной: сумерки все сгладили и смягчили. Маленькие серые домики дружелюбно жались друг к другу. А посередине, деля деревню на две части, проходила длинная узкая дорога; в дождливые месяцы тут была непролазная грязь и стоячие, гнилые лужи; в сухое время года — носились тучи пыли. Когда-то давно, когда Сумасшедший Сэм был молод и не был еще сумасшедшим, он назвал этот проезд Большой улицей. Так с тех пор и повелось. Ее и сейчас звали Большой улицей.
В сгущающихся сумерках Ленни смотрел на Большую улицу и радовался тому, что он дома. Странное чувство, потому что, по существу, ему здесь не нравилось. Деревня была грязная, местность, очевидно, нездоровая. Вода в колодце на краю Большой улицы была мутная, желтая и отдавала глиной, — Ленни это заметил еще днем, когда ему захотелось пить и он напился дома из ведра.
Две девушки прошли мимо и сделали ему глазки. Ленни с жалостью поглядел им вслед. В сумерках он не мог рассмотреть, но не сомневался в том, что у них глаза красные, воспаленные, как у всех здесь. У матери были воспаленные глаза, у Мейбл и у всех, кто ему здесь встречался. А кожа у всех сухая, жесткая, какая-то неживая. Не только у старухи матери — нет, у всех. И какие все худые, изможденные, костлявые.
В Кейптауне он тоже встречал нищету среди цветных, но там она не была поголовной. Были очень бедные, и не очень бедные, и люди с достатком. Но здесь было не так. Здесь, казалось, все были заранее обречены рождаться в беспросветной нищете, и жить в нищете, и в нищете умирать. И даже бедняки в Кейптауне были непохожи на здешних. Те, хоть и жили бедно, но где-то внутри они, по крайней мере, некоторые, были свободны от бедности. А здешние не были. Это было видно по их глазам, движениям, по всему, что они делали. Это слышно было в их голосах. Нищета въелась им в душу — и это было еще хуже, чем та нищенская обстановка, в которой они прозябали.
Ленни закрыл глаза и стал думать о Селии. Он старался усилием воли вызвать перед собой ее образ. Это ему не удалось. Всегда было так легко, а сейчас не выходило. Что-то мешало. Что?.. В глубине души Ленни знал что, — эта мысль давно уже его терзала, с той минуты, как она в первый раз у него мелькнула, — но он даже мысленно не хотел облечь ее в слова. И теперь он опять отмахнулся от нее и поглядел на часы.
— Двадцать минут седьмого… Давай-ка сообразим. Что она сейчас делает? Двадцать минут седьмого… Кейптаун… Что сейчас делает Селия?.. В семь у них дома чай. В семь она будет сидеть дома за чайным столом. Если, конечно, не ушла куда-нибудь в гости. Но что она делает сейчас?..
— Добрый вечер. Я тоже иногда разговариваю сам с собой. Особенно, когда что-нибудь забыл и хочу вспомнить.
Ленни вздрогнул и смущенно поглядел на стоявшего перед ним старика. Он так увлекся своими мыслями, что не заметил, как тот подошел.
Старик был высокого роста, тонкий, сутулый, с белой, как снег, курчавой шапкой волос. Лицо его в сумерках трудно было разглядеть; Ленни видел только, что оно худое, иссохшее, как у всех здесь. И глаза, наверно, тоже воспаленные… Улыбка удивительно добрая, но, может быть, это просто так кажется от вечернего света…
— Я вам помешал, — проговорил старик; голос у него был низкий и звучный.
— Нет, нет, нисколько.
— Я здешний проповедник. Вы меня, наверно, забыли, вы ведь совсем ребенком уехали, но я-то вас хорошо помню.
— Тогда вы, наверно, помните и мое имя, — сказал Ленни.
Старик промолчал, и Ленни вдруг понял, что старый проповедник робеет перед ним, хоть и старается этого не показывать.
— Я так рад, отец, что наконец вернулся домой, — сказал Ленни, крепко пожимая ему руку.
— Хвала господу! — воскликнул старик, и голос его задрожал. — Прости меня, Ленни, сынок, но у нас ведь никогда еще не бывало ученых, и кто его знает, как надо разговаривать с ученым человеком. К нам раз попала газета из Кейптауна, — это которую там цветные издают, — и в газете был твой портрет, и под ним твое имя, а после имени еще какие-то буквы. Прочитать это у нас никто не мог, но все равно мы поняли, что, значит, ты ученый человек, раз твой портрет поместили в газетах. Так что, видишь, я и не знал, как с тобой разговаривать.
— Но ведь я все тот же Ленни, отец. Здесь я родился, здесь мой дом, а вы здешний проповедник.
— Так-то так, сынок, да ведь ты теперь ученый. Ты больше нас всех знаешь. Ты почти столько же знаешь, как белые из Большого дома, как все другие белые. Значит, и уважение тебе надо оказывать такое же, как им. А что ты при этом цветной, как и мы, так это для нас большая честь. Ты великий человек, сын мой, и совершишь великие дела.
— Ну, какой я там великий! Что вы, отец.
— Нет, нет, уж ты не спорь, Ленни, сын мой. Ты ведь знаешь почти столько же, как белые в Большом доме.
Ленни усмехнулся. Почти столько же, как белые в Большом доме. Он был уверен, что знает не меньше, — а пожалуй, и гораздо больше, чем белые в Большом доме, — но то были белые, и потому старый проповедник, да и все стиллевельдцы не могли себе представить, чтобы он знал столько же.
Словно по молчаливому уговору, Ленни и проповедник повернули и вместе пошли по Большой улице. Следом за ними невысоко над землей двигалось облачко пыли. Женщины и девушки, дети и взрослые мужчины высовывали головы в двери или в окна, — в тех домах, в которых имелись окна, — и смотрели, как по улице рядом идут проповедник и этот молодой ученый, сын сестры Сварц. И девушки, играя глазами, говорили: какой красивый! — и в шутку бросали друг другу вызов, — ну-ка, посмотрим, кто из нас покорит его сердце! И глаза старух светились добрым, ласковым светом; они понимали, как должна гордиться сестра Сварц, и разделяли ее гордость. Это ведь нечасто бывает, чтобы молодой человек вернулся домой, хотя мог и в городе устроиться; все бросил ради того, чтобы быть со своими! Все уже знали, что он привез с собой карточку какой-то прехорошенькой барышни. Мейбл утащила ее тайком и показывала кое-кому из девушек; те смотрели и восхищались, и завидовали. Господи, ну совсем как белая! А как причесана! И даже на карточке видно, какая у нее нежная, розовая кожа. Красавица!..
— Давно уже я лелею одну мечту, — задумчиво начал проповедник, глядя куда-то вдаль.
— Да?
— Целые годы, сын мой, я жил одной надеждой.
— Какой же?
— Я молил бога, чтобы он дал мне увидеть, как она сбудется.
Ленни промолчал.
— Я уже стар, я боялся, что не доживу. Но каждый вечер я становился на колени и говорил: господи, я прошу об этом не потому, что я упрямый старик и боюсь смерти. Не потому, о господи. Но я сроднился с этой мечтой: она для меня дороже всего на свете. Дай мне увидеть, как она сбудется. А когда увижу, тогда да свершится воля твоя. Аминь! Я просил, и господь дал мне по прошению моему.
— О чем же вы просили, отец?
— Что ты думаешь делать здесь, сын мой?
Ленни улыбнулся и засунул руки в карманы.
— Самое важное — открыть здесь школу. Нужно еще и многое другое, но это в первую очередь. Почему вы спрашиваете?
— Вот об этом-то я и молился, сын мой. Увидеть то время, когда у нас в деревне будет школа, чтобы наши дети могли научиться мудрости мира сего. Чтобы умели подписать свое имя, — и не надо было им ставить крест, как приходится мне. Чтобы могли открыть святую книгу и сами из нее прочитать. Знаешь ли ты, сынок, что я никогда не читал Библию? Я не умею читать… Но наши дети и дети наших детей — нужно, чтобы они умели. Тогда весь мир будет для них открыт. Вот почему я молился о том, чтобы дожить до этого дня. Это будет начало великих событий. Ибо если наши дети научатся читать и подписывать свое имя, тогда они уж не будут жить в таких лачугах, в каких мы живем; тогда с ними не будут так обращаться, как с нами; тогда для всех будет работа и хорошая еда и одежда. Вот о чем была моя мечта, Ленни.