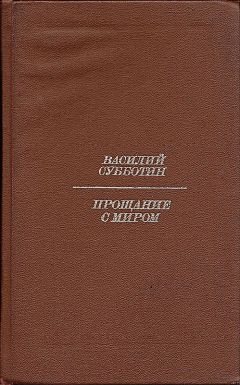Василий Субботин - Прощание с миром
Одно орудие было потеряно сразу, как только его вытащили наверх туда, подбито было прямой наводкой, когда не успели еще выбрать сколько-нибудь подходящую огневую. Снаряд попал прямо под колесо его. Второе поставили на скате, обращенном к немцам, там, где был сосняк редкий. Не успели окопать его, отрыть для него какую ни на есть огневую, как накопившиеся в перелеске немцы со всех сторон начали обтекать высоту. Кондратьев сам встал к орудию, единственному теперь. Стрелять надо было осколочными, а ключ, которым в таких случаях отвинчивают колпачки с головок взрывателей, в спешке, в горячке где-то затеряли. Пришлось отворачивать их зубами. По сути дела, Кондратьев с горсткой людей своего взвода и своим орудием остался в этот час один на один с лезущей на высоту немецкой пехотой. Оставшись один с заряжающим и подносчиком снарядов возле своего орудия (наводчик к тому времени тоже уже был ранен), Кондратьев вместе с находящимися на высоте немногими оставшимися в живых бойцами одной-единственной, хотя и усиленной, бравшей в тот день высоту роты отбивался от наседавшей на них немецкой пехоты...
Противник поставил по переправе такой сильный заградительный огонь, что в течение всей первой половины дня нечего было и думать о том, чтобы подбросить на высоту какое-либо подкрепление. Командира батареи, пытавшегося пройти к взводу Кондратьева, ранило еще утром.
Я пришел, когда кон тратаки уже прекратились и немцы оставили все попытки вернуть высоту. Когда я пришел, оно, это единственное орудие, тоже уже было в последнюю минуту разбито, припав на одно колено, оно стояло, уткнувшись стволом в бурую, вывороченную на поверхность земли глину. От взвода Кондратьева к тому времени осталось всего несколько человек. Перед тем незадолго старшина батареи принес обед, два бачка, в одном — суп, в другом — кашу, термос с водой принес, хлеб и махорку. Па целый взвод принес, но есть было некому да и не хотелось... В помощь обескровленной, почти целиком выбитой штурмовой роте подошли теперь другие, целый батальон подошел. Подтягивали артиллерию, минометчики оборудовали свои огневые по склону горы. С горы было видно, как две наших «тридцатьчетверки», выдвинувшись из леса, вели огонь. Выстрелив, танк отходил назад, маневрировал, а затем снова выдвигался, снова вел огонь.
Так и двигался на месте взад-вперед... Наша дальнобойная била в это самое время из-под горы. Вышедшие из леса, подтянувшиеся к протоке «катюши» заняли свои позиции на фланге, создав таким образом мощное огневое прикрытие для тех, кто находился на высоте...
А еще через день или два наша дивизия, а потом и вся армия в целом, весь фронт наш, время пришло для этого, перешли в наступление, пошли вперед.
Такова была она, эта высота, Федина гора эта,— одна из частых операций, какие происходили в эти дни, я думаю, не на одном только нашем, на многих других участках фронта.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Не ожидал я встретить его здесь, в чужом этом госпитале, вдалеке от своих, и очень обрадовался ему. Как-никак мы имеете пробыли в одной дивизии почти дна года, встречались время от времени, да и день тот я очень запомнил — то, как мы ехали с ним в старой, дребезжащей ободьями армейской повозке через тот только-только начинающий пробуждаться лес, не проснувшийся еще окончательно от зимней спячки, но уже полный птиц, весь тот длинный, так запомнившийся мне день... Мы сели на белой, стоящей под деревом скамеечке и долго сидели здесь. Видимых следов контузии у него не осталось, он только немного заикался да как-то неожиданно, все так же, как и тогда, время от времени тянул головой, его как будто — все это даже не сразу, не вдруг замечалось — вело куда-то в сторону, стягивало ему шею. Он еще слегка прихрамывал, и в руках у него была палка.
Мы погоревали, что потеряли свою дивизию, отстали от нее и теперь не знали, когда мы в нее попадем.
Настроение у капитана, как и у меня, было неважное. Впрочем, как выяснилось, он был теперь уже майором. Ходатайство было послано уже давно, еще в Померании, после нашего выхода на границу, но по каким-то причинам задержалось, приказ пришел после войны уже, после того как бои в Берлине подошли к концу.
Нелегко ему было находится здесь... Только что, казалось бы, отлежал, отвалялся там, в том госпитале, куда я отозвал его с Одера, опять госпиталь, и вот на тебе: теперь, когда война закончилась, опять госпиталь, одни и те лее стены... Все по тому же, что и раньше, кругу!
Мы разошлись по своим палатам, каждый к себе, но скоро опять встретились, сидели там же, на скамейке в парке, потом он пришел ко мне, был у меня в палате. Потом, через неделю, когда того подполковника не стало, Кондратьев перешел ко мне. Мой врач, этот малоразговорчивый человек, заметив, что мы то и дело вместе, устроил это, переговорил с кем-то там у себя, и Кондратьева перевели к нам. Теперь мы были в одной палате. Моя кровать стояла возле одной стены, его — возле другой.
Ходить ему в город с его ногой, с открывшейся раной, было еще тяжело, далеко было, но у себя тут, на территории, мы гуляли.
Дима — я так звал его, я уже привык к нему,— часто, как я заметил, был задумчив, ждал каких-то писем и вообще был расстроен, рассеян, и не потому, я думаю, только, что застрял здесь. Находило на него что-то такое. Я его ни о чем не расспрашивал, хотя и помнил ту встречу, то, как отдал он тогда козленка и какое виноватое и счастливое было у него тогда лицо, весь тот вечер, проведенный в доме, освещенном плошками. Что там у него было, я не знаю. Сам он не хотел этого касаться, и мы говорили с ним о чем угодно, только не об этом...
Прогулки наши затягивались, становились все более отдаленными и продолжительными.
Иной раз мы возвращались в палату поздно, в полной темноте уже, случалось, даже после отбоя. Но мы и потом, в темноте, в палате у себя, раздевшись уже, долго еще не спали, долго разговаривали, иной раз чуть ли не до утра. Он мне о себе, я ему о себе, каждый о своем, как это бывает обычно по ночам, когда люди подолгу не спят, не могут заснуть. Так и у нас было... Я рассказал ему о том, как я, танкист, неожиданно для себя самого на третьем году войны из танковой части попал в газету, к ним в дивизию, в пехоту попал, о том, что представляла собой моя работа на войне. А потом однажды была такая минута, когда мы, все так же в темноте, долго не спали, когда было, должно быть, уже поздно,— о своей незадавшейся жизни, о своей семье рассказал. И тогда он, помолчав, сказал, что он тоже женат, что дома у него, под Воронежем, жена и дочь, которую он не видел ни разу. Что женился он перед самой войной, незадолго до того как уйти на фронт. До той минуты он мне ничего об этом не говорил. Слово за слово, я не ожидал от него такой откровенности, он, заикаясь больше обычного, стал рассказывать мне о себе. Похоже было, что человек не говорил и вдруг после долгого молчания заговорил и, заговорив, стал рассказывать всю свою жизнь.
Он начал свой рассказ торопясь, рассказывал очень мучительно, но постепенно разговорился, и теперь по ночам, когда мы ложились, мы уже не разговаривали, как в прежние дни у нас было когда- то, а я — из ночи в ночь — слушал его. Иногда он надолго замолкал, но потом, на следующий день опять начинал рассказывать. Чего-то он недоговаривал, но я у него не спрашивал, не расспрашивал. Рассказывал что хотел и как хотел...
Я попытаюсь передать здесь его рассказ в том виде, как он сохранился в моей памяти.
Вот что он рассказал мне.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Рассказ Кондратьева
- Мы стояли в латгальской деревне, до отказу забитой обозами. Была осень. В окне было темно и сумрачно, как всегда бывает сумрачно в низкой крестьянской избе, когда идет дождь. Окно упиралось в землю и выходило во двор. Второй день как мы ночевали тут, и этом доме и в этой деревне... В самой глубине двора был виден угол деревянного сарая, крытого почерневшей дранкой. Там скучала нераспряженная лошадь. Шерсть лошади дымилась, от неё шел пар. Над окном нависало какое-то дерево, тоже мокрое и черное. На стол капало.
Меня несколько раз требовали к начальству, надо было составить сводку отчет об израсходовании снарядов, о состоянии техники, я к тому времени уже командиром батареи был, писарь штаба сидел тут же возле меня, надоедал. Пушки у нас стояли на запасных, на гребне, за деревней сразу, как выйдешь из деревни. Принесли обед. Я сидел, слушал, как дождь стучит по крышке стола по одному и тому же месту, думал о погоде, о дороге, по которой нам еще предстояло пробираться. Мало ли о чем может думать человек на войне.
Это днем. А вечером к нам пришли девушки. Две девочки-медички из санроты полка, которая разместилась по соседству с нами, тут, на хуторе, рядом с тылами нашими. Одну я еще все-таки знал немножко, и всегда она не нравилась мне: громогласная, лишь одну себя слушающая, выросшая, да так и не захотевшая расстаться с ролью большого ребенка, усвоившая интонации младенца, играющая, капризничающая; свежие, малиновые почему-то, нашивки были у нее на шинели, была она в звании старшего сержанта. Другая, которая пришла с ней, была, по-видимому, новенькая, я ее никогда не видел прежде. Я не мог дождаться, когда они уйдут, и сидел буквально как на иголках. Больно уж не вовремя они пришли. А Сенька Казаков, заменяющий у меня командира взвода, сразу завел с ними разговор. Он актер бывший, такая натура, целыми днями готов трепаться, если его не остановить. Эта, толстая, грубая, детским своим голосом, как всегда, должно быть, что-то изображала, смеялась ненатурально и неестественно, как всегда, должно быть, смеялась...